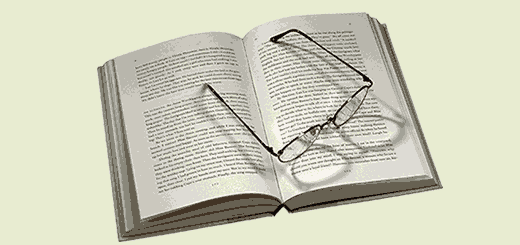Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях
Хранители сказок | Сказки Андерсена Ганса Христиана
Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит зыбь, как по воде; пронесется над нивою, и она взволнуется, как море. Так танцует ветер. А послушай его рассказы! Он поет их, и голос его звучит по-разному: в лесу — так, в слуховых окнах, щелях и трещинах стен — иначе. Видишь, как он гонит по небу облака, точно стада овец?
Слышишь, как он воет в открытых воротах, будто сторож трубит в рог? А как странно гудит он в дымоходе, врываясь в камин! Пламя вспыхивает и разлетается искрами, озаряя дальние углы комнаты, и сидеть тут, слушая его, тепло и покойно. Пусть рассказывает только он один! Сказок и историй он знает больше, чем все мы, вместе взятые. Слушай же, он начинает рассказ!
«У-у-уу! Лети дальше!» — это его припев.
— На берегу Большого Бельта стоит старый замок с толстыми красными стенами, — начал ветер. — Я знаю там каждый камень, я видел их все, еще когда они сидели в стенах замка Марека Стига. Замок снесли, а камни опять пошли в дело, из них сложили новые стены, новый замок, в другом месте — в усадьбе Борребю, он стоит там и поныне.
Знавал я и высокородных владельцев и владетельниц замка, много их поколений сменилось на моих глазах. Сейчас я расскажу о Вальдемаре До и его дочерях!
Высоко держал он свою голову — в нем текла королевская кровь. И умел он не только оленей травить да кубки осушать, а кое-что получше, а что именно — «поживем-увидим», говаривал он.
Супруга его, облаченная в парчовое платье, гордо ступала по блестящему мозаичному полу. Роскошна была обивка стен, дорого плачено за изящную резную мебель. Много золотой и серебряной утвари принесла госпожа в приданое. В погребах хранилось немецкое пиво — пока там вообще чтолибо хранилось. В конюшнях ржали холеные вороные кони. Богато жили в замке Ворребю — пока богатство еще держалось.
Были у хозяев и дети, три нежных девушки: Ида, Йоханна и Анна Дортея. Я еще помню их имена.
Богатые то были люди, знатные, родившиеся и выросшие в роскоши. У-у-уу! Лети дальше! — пропел ветер и продолжал свой рассказ: — Тут не случалось мне видеть, как в других старинных замках, чтобы высокородная госпожа вместе со своими девушками сидела в парадном зале за прялкой. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни только старые датские песни, а и чужеземные, на других языках. Тут шло гостеванье и пированье, гости наезжали и из дальних и из ближних мест, гремела музыка, звенели бокалы, и даже мне не под силу было их перекрыть! Тут с блеском и треском гуляла спесь, тут были господа, но не было радости.
Стоял майский вечер, — продолжал ветер, — я шел с запада. Я видел, как разбивались о ютландский берег корабли, я пронесся над вересковой пустошью и зеленым лесистым побережьем, я, запыхавшись и отдуваясь, прошумел над островом Фюн и Большим Бельтом и улегся только у берегов Зеландии, близ Борребю, в великолепном дубовом лесу — он был еще цел тогда.
По лесу бродили парни из окрестных деревень и собирали хворост и ветви, самые крупные и сухие. Они возвращались с ними в селение, складывали их в кучи, поджигали и с песнями принимались плясать вокруг. Девушки не отставали от парней.
Я лежал смирно, — рассказывал ветер, — и лишь тихонько дул на ветку, положенную самым красивым парнем. Она вспыхнула, вспыхнула ярче всех, и парня назвали королем праздника, а он выбрал себе из девушек королеву. То-то было веселья и радости — больше, чем в богатом господском замке Борребю.
Тем временем к замку подъезжала запряженная шестерней золоченая карета. В ней сидела госпожа и три ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка: роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать была как пышный тюльпан и не отвечала ни на один книксен, ни на один поклон, которыми приветствовали ее приостановившие игру поселяне. Тюльпан словно боялся сломать свой хрупкий стебель.
«А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, — да, я видел их всех троих, — чьими королевами будете вы? — думал я. — Вашим королем будет гордый рыцарь, а то, пожалуй, и принц!» У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!
Так вот, карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс. Госпожа совершала летний объезд своих владений — Борребю, Тьеребю, всех селений окрест.
А ночью, когда я поднялся, — продолжал ветер, — высокородная госпожа легла, чтобы уже не встать. С нею случилось то, что случается со всеми людьми, ничего нового. Вальдемар До стоял несколько минут серьезный и задумчивый. Гордое дерево гнется, но не ломается, думалось ему. Дочери плакали, дворня тоже утирала глаза платками. Госпожа До поспешила дальше из этого мира, полетел дальше и я! У-у-уу! — сказал ветер.
Я вернулся назад — я часто возвращался, — проносясь над островом Фюн и Большим Бельтом, и улегся на морской берег в Борребю, близ великолепного дубового леса. В нем вили себе гнезда орланы, вяхири, синие вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна. Одни птицы еще сидели на яйцах, другие уже вывели птенцов. Ах, как летали, как кричали птичьи стаи! В лесу раздавались удары топоров, дубы были обречены на сруб. Вальдемар До собирался построить дорогой корабль — военный трехпалубный корабль, его обещал купить король. Вот почему валили лес — примету моряков, прибежище птиц. Летали кругами вспугнутые сорокопуты — их гнезда были разорены. Орланы и прочие лесные птицы лишались своих жилищ. Они как шальные кружили в воздухе, крича от страха и злобы. Я понимал их. А вороны и галки кричали громко и насмешливо: «Крах! Вон из гнезда! Крах! Крах!»
Посреди леса, возле артели лесорубов, стояли Вальдемар До и три его дочери. Все они смеялись над дикими криками птиц, все, кроме младшей, Анны Дортеи. Ей было жаль птиц, и когда настал черед полузасохшего дуба, на голых ветвях которого ютилось гнездо черного аиста с уже выведенными птенцами, она попросила не рубить дерево, попросила со слезами на глазах, и дуб пощадили ради черного аиста — стоило ли разговаривать из-за одного дерева!
Затем пошла пилка и рубка — строили трехпалубный корабль. Сам строитель был незнатного рода, но благородной души человек. Глаза и лоб обличали в нем ум, и Вальдемар До охотно слушал его рассказы. Заслушивалась их и молоденькая Ида, старшая дочь, которой было пятнадцать лет. Строитель же, сооружая корабль для Вальдемара До, строил воздушный замок и для себя, в котором он и Ида сидели рядышком, как муж и жена. Так оно и сталось бы, будь его замок с каменными стенами, с валами и рвами, с лесом и садом. Только где уж воробью соваться в танец журавлей! Как ни умен был молодой строитель, он все же был бедняк. У-у-уу! Умчался я, умчался и он — не смел он больше там оставаться, а Ида примирилась со своей судьбой, что же ей было делать?..
В конюшнях ржали вороные кони, на них стоило поглядеть, и на них глядели. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко восхищался ретивыми конями. Я хорошо все слышал, ведь я прошел за господами в открытые двери и сыпал им под ноги золотую солому, — рассказывал ветер. — Вальдемар До хотел получить золото, а адмирал — вороных коней, оттого-то он и нахваливал их. Но его не поняли, и дело не сладилось. Корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками, — ноев ковчег, которому не суждено было пуститься в путь. У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! Жалко было смотреть на него!
Зимою, когда земля лежала под снегом, плавучие льды забили весь Бельт, а я нагонял их на берег, — говорил ветер. — Зимою прилетали стаи ворон и воронов, одни чернее других. Птицы садились на заброшенный, мертвый, одинокий корабль, стоявший на берегу, и хрипло кричали о загубленном лесе, о разоренных дорогих им гнездах, о бесприютных старых птицах о бездомных молодых, и все ради этого величественного хлама — гордого корабля, которому не суждено выйти в море.
Я вскрутил снежный вихрь, и снег ложился вокруг корабля и накрывал его, словно разбушевавшиеся волны. Я дал ему послушать свой голос и музыку бури. Моя совесть чиста: я сделал свое дело, познакомил его со всем, что полагается знать кораблю. У-у-уу! Лети дальше!
Прошла и зима. Зима и лето проходят, как проношусь я, как проносится снег, как облетает яблоневый цвет и падают листья. Лети дальше! Лети дальше! Лети дальше! Так же и с людьми…
Но дочери были еще молоды. Ида по-прежнему цвела, словно роза, как и в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее распущенными русыми волосами, когда она задумчиво стояла под яблоней в саду, не замечая, как я осыпаю ее цветами. Она смотрела на красное солнышко и золотой небосвод, просвечивавший между темными деревьями и кустами.
Сестра ее, Йоханна, была как стройная блестящая лилия; она была горда и надменна и с такой же тонкой талией, какая была у матери. Она любила заходить в большой зал, где висели портреты предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и затканных жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в косы волосы. Как прекрасны были они! Мужья их были в стальных доспехах или дорогих мантиях на беличьем меху с высокими стоячими голубыми воротниками. Мечи они носили не на пояснице, а у бедра. Где-то будет висеть со временем портрет Йоханны, как-то будет выглядеть ее благородный супруг? Вот о чем она думала, вот что беззвучно шептали ее губы. Я подслушал это, когда ворвался в зал по длинному проходу и, переменившись, понесся вспять.
Анна Дортея, еще четырнадцатилетняя девочка, была тиха и задумчива. Большие синие, как море, глаза ее смотрели серьезно и грустно, но на устах порхала детская улыбка. Я не мог ее сдуть, да и не хотел.
Я часто встречал Анну Дортею в саду, на дороге и в поле. Она собирала цветы и травы, которые могли пригодиться ее отцу: он приготовлял из них питье и капли. Вальдемар До был не только заносчив и горд, но и учен. Он много знал. Все это видели, все об этом шептались. Огонь пылал в его камине даже в летнее время, а дверь была на замке. Он проводил взаперти дни и ночи, но не любил распространяться о своей работе. Силы природы надо испытывать в тиши. Скоро, скоро найдет он самое лучшее, самое драгоценное — червонное золото.
Вот почему из камина валил дым, вот почему трещало и полыхало в нем пламя. Да, да, без меня тут не обошлось, — рассказывал ветер. «Будет, будет! — гудел я в трубу. — Все развеется дымом, сажей, золой, пеплом. Ты прогоришь! У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!» Вальдемар До стоял на своем.
Куда же девались великолепные лошади из конюшен? Куда девалась старинная золотая и серебряная утварь из шкафов? Куда девались коровы с полей, все добро и имение? Да, все это можно расплавить! Расплавить в золотом тигле, но золота не получить.
Пусто стало в кладовых, в погребах и на чердаках. Убавилось людей, прибавилось мышей. Оконное стекло лопнет здесь, треснет там, и мне уже не надо входить непременно через дверь, — рассказывал ветер. — Где дымится труба, там готовится еда, а тут дымилась такая труба, что пожирала всю еду ради червонного золота.
Я гудел в крепостных воротах, словно сторож трубил в рог, но тут не было больше сторожа, — рассказывал ветер. — Я вертел башенный флюгер, и он скрипел, словно сторож храпел на башне, но сторожа не было и там — были только крысы да мыши. Нищета накрывала на стол, нищета водворилась в платяных шкафах и буфетах, двери срывались с петель, повсюду появились трещины и щели, я свободно входил и выходил, — рассказывал ветер, — оттого-то и знаю, как все было.
От дыма и пепла, от забот и бессонных ночей поседели борода и виски владельца Борребю, пожелтело и избороздилось морщинами лицо, но глаза по-прежнему блестели в ожидании золота, желанного золота.
Я пыхал ему дымом и пеплом в лицо и бороду. Вместо золота явились долги. Я свистел в разбитых окнах и щелях, задувал в сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья — носить их приходилось без конца, без перемены. Да, не такую песню пели девушкам над колыбелью! Господское житье стало житьем горемычным. Лишь я один пел там во весь голос! — рассказывал ветер. — Я засыпал весь замок снегом — говорят, будто под снегом теплее. Взять дров неоткуда было, лес-то ведь вырубили. А мороз так и трещал. Я гулял по всему замку, врывался в слуховые окна и проходы, резвился над крышей и стенами. Высокородные дочери попрятались от холода в постели, отец залез под меховое одеяло. Ни еды, ни дров — вот так господское житье! У-у-уу! Лети дальше! Будет, будет! Но господину До было мало.
«За зимою придет весна, — говорил он. — За нуждою придет достаток. Надо только немножко подождать, подождать. Имение заложено, теперь самое время явиться золоту, и оно явится к празднику».
Я слышал, как он шептал пауку: «Ты, прилежный маленький ткач, ты учишь меня выдержке. Разорвут твою ткань, ты начинаешь с начала и доводишь работу до конца. Разорвут опять — ты опять, не пав духом, принимаешься за дело. С начала, с начала! Так и следует! И в конце концов ты будешь вознагражден».
Но вот и первый день пасхи. Зазвонили колокола, заиграло на небе солнце. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь, кипятил, охлаждал, перемешивал, возгонял. Я слышал, как он вздыхал в отчаянии, слышал, как он молился, слышал, как он задерживал дыхание. Лампа его потухла — он этого не заметил. Я раздувал уголья, они бросали красный отсвет на его бледное как мел лицо с глубоко запавшими глазами. И вдруг глаза его стали расширяться все больше и больше и вот уже, казалось, готовы были выскочить из орбит.
Поглядите в сосуд алхимика! Там что-то мерцает. Горит, как жар, чистое и тяжелое… Он подымает сосуд дрожащей рукою, он с дрожью в голосе восклицает: «Золото! Золото!» У него закружилась голова, я мог бы свалить его одним дуновением, — рассказывал ветер, — но я лишь подул на угли и последовал за ним в комнату, где мерзли его дочери. Его камзол, борода, взлохмаченные волосы были обсыпаны пеплом. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, заключенное в хрупком сосуде. «Нашел! Получил! Золото!» — закричал он и протянул им сосуд, искрившийся на солнце, но тут рука его дрогнула, и сосуд упал на пол, разлетелся на тысячу осколков. Последний мыльный пузырь надежды лопнул… У-у-уу! Лети дальше! И я унесся из замка алхимика.
Поздней осенью, когда дни становятся короче, а туман приходит со своей мокрой тряпкой и выжимает капли на ягоды и голые сучья, я вернулся свежий и бодрый, проветрил и обдул небо от туч и, кстати, пообломал гнилые ветви — работа не ахти какая, но кто-то должен же ее делать. В замке Борребю тоже было чисто, словно выметено, только на другой лад. Недруг Вальдемара До, Ове Рамель из Баснеса, явился с закладной на именье: теперь замок и все имущество принадлежали ему. Я колотил по разбитым окнам, хлопал ветхими дверями, свистел в щели и дыры: «У-у-уу! Пусть не захочется господину Ове остаться тут!» Ида и Анна Дортея заливались горькими слезами; Йоханна стояла гордо выпрямившись, бледная, до крови прикусив палец. Но что толку! Ове Рамель позволил господину До жить в замке до самой смерти, но ему и спасибо за это не сказали. Я все слышал, я видел, как бездомный дворянин гордо вскинул голову и выпрямился. Тут я с такой силой хлестнул по замку и старым липам, что сломал толстенную и нисколько не гнилую ветвь. Она упала возле ворот и осталась лежать, словно метла, на случай, если понадобится что-нибудь вымести. И вымели — прежних владельцев.
Тяжелый выдался день, горький час, но они были настроены решительно и не гнули спины. Ничего у них не осталось, кроме того, что было на себе, да вновь купленного сосуда, в который собрали с пола остатки сокровища, так много обещавшего, но не давшего ничего. Вальдемар До спрятал его на груди, взял в руки посох, и вот некогда богатый владелец замка вышел со своими тремя дочерьми из Борребю. Я охлаждал своим дуновением его горячие щеки, гладил по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел: «У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше!»
Ида и Анна Дортея шли рядом с отцом; Йоханна, выходя из ворот, обернулась. Зачем? Ведь счастье не обернется. Она посмотрела на красные стены, возведенные из камней замка Марека Стига, и вспомнила о его дочерях. И старшая, младшую за руку взяв, Пустилась бродить с ней по свету.
Вспомнила ли Йоханна эту песню? Тут изгнанниц было трое, да четвертый — отец. И они поплелись по дороге, по которой, бывало, ездили в карете, поплелись в поле Смидструп, к жалкой мазанке, снятой ими за десять марок в год, — новое господское поместье, пустые стены, пустая посуда. Вороны и галки летали над ними и насмешливо кричали: «Крах! Крах! Разорение! Крах!» — как кричали птицы в лесу Борребю, когда деревья падали под ударами топоров.
Господин До и его дочери отлично понимали эти крики, хоть я и дул им в уши изо всех сил — стоило ли слушать?
Так вошли они в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и раздетыми лесами, в открытое море, в другие страны. У-у-уу! Лети дальше! Лети дальше! И так из года в год.
Что же сталось с Вальдемаром До, что сталось с его дочерьми? Ветер рассказывает:
— Последней я видел Анну Дортею, бледный гиацинт, — она была уже сгорбленной старухой, прошло ведь целых пятьдесят лет. Она пережила всех и все знала.
На вересковой пустоши близ города Виборга стоял новый красивый дом священника — красные стены, зубчатый фронтон. Из трубы валил густой дым. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели поверх кустов садового терновника на бурую пустошь. Что же они там видели? Они видели гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся хижины. Вся крыша поросла мхом и диким чесноком, и покрывала-то хижину главным образом не она, а гнездо аиста. И оно одно только и чинилось — его держал в порядке сам аист.
На хижину эту можно было только смотреть, но уж никак не трогать! Даже мне приходилось дуть здесь с опаской! — рассказывал ветер. — Только ради гнезда аиста и оставляли на пустоши такую развалюху, не то давно бы снесли. Семья священника не хотела прогонять аиста, и вот хижина стояла, а в ней жила бедная старуха. Своим приютом она была обязана египетской птице, а может, и наоборот, аист был обязан ей тем, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, жившего в лесу Борребю. В те времена нищая старуха была нежным ребенком, бледным гиацинтом высокородного цветника. Анна Дортея помнила все.
«О-ох! — Да, и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке. — О-ох! Не звонили колокола над твоею могилой, Вальдемар До! Не пели бедные школьники, когда бездомного владельца Борребю опускали в землю!.. Да, всему, всему наступает конец, даже несчастью!.. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Это-то и нанесло отцу самый жестокий удар… Муж его дочери — жалкий раб, которого господин может посадить на кобылку. Теперь и он, наверно, в земле, и сестра Ида. Да, да! Только мне, бедной, судьба конца не посылает!»
Так говорила Анна Дортея в жалкой хижине, стоявшей лишь благодаря аисту.
Ну, а о самой здоровой и смелой из сестер позаботился я сам! — продолжал ветер. — Она нарядилась в платье, которое было ей больше по вкусу: переоделась парнем и нанялась в матросы на корабль. Скупа была она на слова, сурова на вид, но от дела не отлынивала, вот только лазать не умела. Ну, я и сдул ее в воду, пока не распознали, что она женщина, — и хорошо сделал!
Был первый день пасхи, как и тогда, когда Вальдемару До показалось, что он получил золото, и я услыхал под крышей с гнездом аиста пение, последнюю песнь Анны Дортеи.
В хижине не было даже окна, а просто круглое отверстие в стене. Словно золотой самородок, взошло солнце и заполнило собой хижину. Что за блеск был! Глаза Анны Дортеи не выдержали, не выдержало и сердце. Впрочем, солнце тут ни при чем; не озари оно ее в то утро, случилось бы то же самое.
По милости аиста у Анны Дортеи был кров над головой до последнего дня ее жизни. Я пел и над ее могилой, и над могилой ее отца, я знаю, где и та и другая, а кроме меня, не знает никто.
Теперь настали новые времена, другие времена! Старая проезжая дорога упирается теперь в огороженное поле, новая проходит по могилам, а скоро промчится тут и паровоз, таща за собой ряд вагонов и грохоча над могилами, такими же забытыми, как и имена. У-у-уу! Лети дальше!
Вот вам и вся история о Вальдемаре До и его дочерях. Расскажи ее лучше, кто сумеет! — закончил ветер и повернул в другую сторону.
И след его простыл.
Хранители сказок | Сказки Андерсена Ганса Христиана