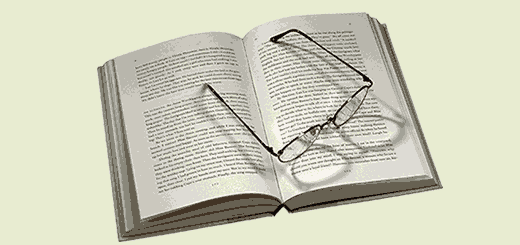Фантасмагории в бременском винном погребке
Хранители сказок | Сказки Вильгельм Гауф
Доброе вино – хороший товарищ… и кому не случится иной раз опьянеть.
Шекспир
Двенадцати апостолам бременского винного погребка в знак признательности и памяти.
Автор. Осень 1827
– С ним не сговоришь, – сказали они, спускаясь по лестнице той гостиницы, где я остановился, я их ясно слышал. – Теперь его уже в девять часов клонит ко сну, настоящий сурок, кто бы мог это подумать четыре года тому назад.
Не скажу, что мои друзья рассердились на меня понапрасну. Ведь сегодня вечером в городе устраивался танцевальный чай с музыкой, декламацией и бутербродами, и мои приятели приложили немало стараний, чтобы я, приезжий, провел приятно вечер. Но для меня это действительно было немыслимо, я не мог пойти. Чего ради идти на танцевальный чай, раз она не будет там танцевать, чего ради идти на чай с пением и бутербродами, где мне (я это наперед знал) придется петь, а она меня не услышит, чего ради мешать веселью задушевных друзей унылым и хмурым настроением, от которого я сегодня не мог отделаться? О господи, уж лучше бы они позлились на меня минутку, сходя с лестницы, но не скучали с девяти вечера до часа ночи, беседуя только с моим бренным телом и тщетно взывая к душе, ибо она бродила за несколько улиц оттуда по кладбищу при церкви Божьей матери.
Но мне было обидно, что любезные мои приятели обозвали меня сурком и приписали сонливости то, что на самом деле объяснялось желанием бодрствовать. Только ты, сердечный друг Герман, правильно меня понял. Ведь я слышал, как ты сказал уже внизу на соборной площади: «Нет, дело не в сонливости – у него же блестят глаза. Опять он выпил, то ли многовато, то ли маловато, и, значит, хочет глотнуть еще, но – в одиночестве».
Откуда только у тебя такой дар провидения? Или ты догадался, что, если глаза у меня смотрят бодро, значит, ночью мне предстоит встреча со старым рейнским вином; откуда мог ты знать, что грамоту и письменное разрешение, выданные мне ратушей, я пущу в ход как раз этой ночью, дабы приветствовать Розу и ваших двенадцать апостолов? К тому же у меня сегодня особый, «високосный» день.
На мой взгляд, не так уж плоха усвоенная мною от деда привычка посидеть и поразмыслить над теми зарубками, что нанесены за год на древо жизни. Ежели ты празднуешь только Новый год да пасху, рождество или троицу, то в конце концов эти праздники станут привычными, покажутся буднями и перестанут вызывать воспоминания. А как бы хорошо, чтобы душа, вечно озабоченная житейской суетой, когда-нибудь завернула на постоялый двор собственного своего сердца и угостилась за долгим табльдотом воспоминаний, а затем написала бы добросовестный счет ad notam1, подобный тому, что трактирщица Быструха подала рыцарю. Дедушка называл такие дни своими високосными днями. Это не значило, что он приглашал на банкет друзей или проводил такой день весело и шумно, в свое удовольствие; нет, он углублялся в себя и услаждал свою душу в опочивальне, знакомой ему уже семьдесят пять лет. Еще и по сию пору, хотя он уже давно покоится на кладбище в холодной могиле, еще и по сию пору я нахожу в его голландском Горации те строки, что он читал в такие дни; еще и по сию пору, словно это было вчера, вижу я его большие голубые глаза, задумчиво устремленные на пожелтевшие страницы семейной книги для памятных записей. И так ясно вижу я, как его глаза постепенно увлажняются, как дрожит на седых ресницах слеза, как сжимается властный рот, как старик медленно, словно не решаясь, берет перо и ставит черный крест под именем «одного из своих отошедших в вечность братьев».
«У барина високосный день», – шепотом увещевали нас слуги, когда мы, как обычно, шумно и весело мчались вверх по лестнице. «У дедушки високосный день», – перешептывались мы и думали, что он сам готовит себе рождественские подарки, ведь у него не было никого, кто бы зажег ему елку. И разве мы были не правы, думая так в детской простоте? Разве он не зажигал рождественскую елку своих воспоминаний, разве не горели тысячи мерцающих свечек – любимые часы долгой жизни, и не казалось, что, сидя вечером своего високосного дня тихо и умиротворенно в креслах, он детски радуется дарам прошлого?
Его високосный день был и тогда, когда его вынесли из дома. Я пустил слезу, подумав, что дедушка в первый раз за долгое-долгое время попал на свежий воздух. Его повезли по дороге, по которой я так часто ходил вместе с ним. Но только везли его не долго, а потом перешли через черный мост и положили дедушку глубоко в землю. «Вот теперь он справляет свой настоящий високосный день, – подумал я, – но не пойму, как он вернется оттуда, ведь на него набросали столько камней и дерна». Он не вернулся оттуда. Но его облик сохранился у меня в памяти, и, когда я подрос, я очень любил рисовать себе его умный открытый лоб, ясный взгляд, властный и в то же время такой ласковый рот. Вместе с его обликом возникало множество воспоминаний, и его високосные дни были самыми любимыми картинами в этой длинной галерее воспоминаний.
А сегодня разве не первое сентября, дата, которую я избрал для своего високосного дня, не так ли? Мне же предлагают объедаться бутербродами в светском обществе и слушать всякие арии, да сверх того еще аплодисменты и щебет. Нет! Я прибегну к тебе, превосходный рецепт, столь превосходного не пропишет ни один врач на свете. Я спущусь вниз к тебе, старая проверенная аптека, чтобы, «как предписано, каждый раз осушать полный бокал».
Когда пробило десять часов, я уже спускался по широким ступеням в винный погреб; я надеялся, что не встречу ни одного гуляки, ведь для остальных людей день был будничный, а на дворе шумела непогода, флюгера затягивали неожиданные песни, дождь барабанил по мостовой соборной площади. Я протянул муниципальному сторожу погребка распоряжение принести мне вина, он смерил меня с ног до головы недоумевающим взглядом.
– Так поздно? Да еще сегодняшней ночью! – воскликнул он.
– Для меня до полуночи никогда не бывает поздно, – возразил я, – а наутро будет еще достаточно ранний час.
– Но неужели же… – начал было он, но, снова взглянув на печать и почерк своего начальника, молча, хоть и нерешительно, зашагал впереди меня. Что за отрада было видеть, как свет от его свечи в бумажном колпачке скользит по длинному ряду бочек, как он дрожит на сводах, какие рисует причудливые очертания и тени, как блуждает по столбам в глубине погреба, так что чудится, будто это суетятся возле бочек хлопотливые купорщики. Он хотел отпереть мне одну из тех залец, где за круговой чашей могут поместиться, и то очень тесно, шесть – восемь приятелей, не больше. Я люблю сиживать в таких укромных уголках с закадычными друзьями: в тесном помещении сидят ближе друг к другу, каждое слово слышно, беседа звучит задушевнее. Но когда я совсем один и одинок, я люблю свободное помещение, где и думается и дышится свободнее. Для своего одинокого пиршества я выбрал старый сводчатый зал, самый большой в здешних подземных покоях.
– Вы ждете друзей? – спросил служитель.
– Я буду один.
– Может, придет кто и незваный, – прибавил он, робко озираясь на тени, которые отбрасывала свеча.
– Вы это о чем? – удивился я.
– Так, ни о чем, просто подумалось, – ответил он, зажегши свечи и поставив передо мной большой зеленый бокал. – Про первое сентября всякое толкуют, к тому же господин сенатор Д. два часа как ушли отсюда, и я вас уже не ждал.
– Господин сенатор Д.? Зачем он приходил? Он меня спрашивал?
– Нет, они только приказали взять пробы.
– Какие пробы, друг?
– Да с двенадцати и с Розы, – ответил старик, доставая штофики с длинными бумажными полосками на горлышках.
– Как? – воскликнул я. – Мне было сказано, что я могу пить вино, нацеженное тут же при мне из бочки.
– Да, но только в присутствии кого-либо из магистрата. Вот господин сенатор и приказали мне нацедить пробы; так, если вам угодно, я вам сейчас налью.
– Ни-ни, ни капельки, – прервал я его, – тут я ни рюмки не выпью, подлинное наслаждение пить прямо из бочки, а если сейчас нельзя, то я хоть у бочки выпью. Идемте, отец, забирайте ваши пробы, а я понесу свечу.
Я уже несколько минут наблюдал за странным поведением старого служителя. Он то глядел на меня и откашливался, будто порывался что-то сказать, то брал со стола штофики с пробами, совал их в свои обширные карманы, то нерешительно вытаскивал их обратно и снова ставил на стол. Мне это надоело.
– Ну, так когда же мы двинемся? – воскликнул я, всей душой стремясь в Апостольский подвал. – Долго вы еще будете возиться с вашими штофиками?
Серьезный тон, каким это было сказано, как будто придал ему смелости. Он ответил довольно решительно:
– Нет, сударь, сейчас нельзя! Сегодня уж никак нельзя!
Я подумал, что это обычный прием управителей, кастелянов и служителей при погребках, чтобы выманить у приезжих на чаек, и сунул ему в руку довольно крупную монету.
– Нет, я не для того, – сказал он, пытаясь вернуть мне деньги. – Нет, сударь, не для того! Я вам все сейчас начистоту выложу: сегодня ночью меня не заставишь пойти в Апостольский подвал, ведь сегодня ночь на первое сентября.
– Ну, и что отсюда следует? Что за чепуха?
– Господи помилуй, можете думать, как вам угодно, но сегодняшнюю ночь там нечисто, ведь сегодня годовщина Розы.
Я так расхохотался, что загудели своды.
– Еще чего! За свою жизнь я не раз слышал о привидениях, но о винных привидениях что-то не слыхивал! Не стыдно вам, убеленному сединами, нести такой вздор! Но нечего разводить разговоры. Тут сенат полновластный хозяин. Сегодня ночью я могу пить в здешнем погребе где и когда захочу. Посему приказываю вам именем магистрата идти со мной. Отопри мне погреб Бахуса, старик!
Это подействовало. Без возражений, хотя и неохотно, взял он свечи и сделал мне знак следовать за ним. Сперва мы снова прошли через большой зал, затем через ряд меньших, пока наш путь не привел нас к узкому, со всех сторон сдавленному проходу. Шаги глухо отдавались в этом ущелье, а дыханье, отражаясь от каменных сводов, казалось отдаленным шепотом. Наконец мы очутились перед дверью, загремели ключи, дверь заскрипела и отворилась, свет озарил своды, передо мной на огромной винной бочке сидел любезный друг Бахус. Упоительное зрелище! Не очень-то изящным и красивым изобразили его бременские мастера, не прекрасным греческим юношей; не представили они его и старым и пьяным, отвратительным и пузатым, с закатившимися глазами и высунутым языком, как его богохульно увековечил общепринятый миф. Постыдный антропоморфизм, слепая людская тупость! Такой облик был у его жрецов, поседевших, служа ему, это их разнесло от блаженного веселья, это у них рдел нос пламенным отсветом багряного потока, это они замерли в немом восторге, вперив в небо остановившийся взгляд, – а люди приписали богу то, что украшало его служителей!
Иначе изобразили его бременские мастера. Жизнерадостный, веселый сидит наш холостяк верхом на бочке. Такой круглолицый, цветущий, пьяные глазки смотрят умно, задористо, видно, он не раз приложился к чарке, рот расплылся в широкой улыбке, короткая крепкая шея, все его небольшое тело дышит покойной, изобильной жизнью. Но особое искусство вложил создавший тебя мастер в обработку ручек и ножек. Так и кажется, что сейчас ты шевельнешь ручкой и прищелкнешь короткими пальчиками, а расплывшийся в широкой улыбке рот раскроется для веселого возгласа: уля-ля! Так и кажется, что в озорном пьяном веселье ты согнешь круглые колени, напружишь икры, пристукнешь пятками и пустишь галопом старую большую бочку, и все Розы, апостолы и другие меньшие бочки с гиком и улюлюканьем припустятся за тобой!
– Царю небесный! – воскликнул старик служитель, вцепившись в меня. – Вы что, не видите, как он ворочает глазами и болтает ножками?
– В своем ли вы уме, отец? – сказал я, бросив робкий взгляд на деревянного бога вина. – Вам померещилось. Просто на нем играет пламя свечей.
Но все же на душе у меня стало смутно. Я вышел вслед за стариком из Бахусова погреба. Не знаю, было ли то от мерцания свечей, был ли то обман зрения, только, когда я оглянулся, мне почудилось, будто он кивнул, дрыгнул вслед мне ножкой и весь затрясся, скорчился от сдерживаемого смеха. Я невольно устремился за стариком и постарался не отставать от него.
– А теперь к двенадцати апостолам, – сказал я. – Посмотрим, какого вкуса пробы там!
Он ничего не ответил, просто покачал головой, продолжая идти. Нам надо было подняться на несколько ступеней к маленькому погребку, к подземному небосводу, к блаженной обители двенадцати. Как далеко усыпальницам и склепам старых королевских замков до этих катакомб! Пусть стоят там саркофаг к саркофагу, пусть на черном мраморе воздается хвала тем, что почиют здесь в ожидании «радостного дня восстания из мертвых», пусть словоохотливый чичероне в траурном одеянии, с крепом на шляпе превозносит небывалое великолепие того или иного праха, пусть он перечисляет отменные добродетели некоего принца, павшего в той или иной баталии, пусть повествует о нежной красоте княгини, на гробнице которой девственная мирта прильнула к полураспустившемуся бутону розы, – все это напомнит нам, что мы смертны, возможно, даже исторгнет слезу, но насколько же трогательней эта опочивальня целого столетия, это последнее пристанище замечательного поколения! Вот они лежат перед вами в темно-коричневых простых гробах, без мишурного блеска, без позументов. Их скромным заслугам, их непритязательным добродетелям, их превосходному нраву не воздается хвала на мраморных досках, но какой же человек, ежели он хоть мало-мальски чувствителен, не умилится, когда старый сторож погребка – этот служитель здешних катакомб, этот кистер подземной церкви – поставит свечи на гробы, когда осветятся благородные имена великих усопших. Подобно властителям царств, они не нуждаются в перечислении титулов и фамилий; их имена просто написаны крупными буквами на их гробницах. Там Андрей, здесь Иоанн, в том углу – Иуда, а этом – Петр. Кто не умилится, услышав: здесь покоится благородный Ниренштейнец, 1718 года рождения, здесь – Рюдесгеймец, 1726 года рождения. Направо Павел, налево Иаков, добрый Иаков!
А в чем их заслуги? Вы еще спрашиваете? Разве вы не видите, как старик наливает в зеленый бокал, как он подает мне великолепную кровь апостола? Багряным золотом сверкает она в стакане. Когда его растило солнце на Йоганнесберге, оно было светлое, чуть золотистое. Столетие сгустило его окраску! Какие слова найти, чтобы определить упоительный букет, который исходит от бокала? Соберите цвет всевозможных деревьев, сорвите все полевые цветы, прибавьте индийские пряности, опрыскайте амброй, окурите пахучей янтарной смолой эти прохладные подвалы, смешайте все эти тончайшие ароматы, подобно тому как пчела собирает воедино мед из всевозможных цветов, какой же это слабый, какой обычный запах, недостойный нежного благоухания вашего кубка, уроженцы Бингена и Лаубенгейма, недостойный вашего благоухания, уроженцы Ниренштейна 1718 года.
– Вы качаете головой, отец? Осуждаете, что меня так радует встреча с вашими старыми знакомыми? Вот, друг, возьми бокал, выпей за процветание двенадцати! Давай чокнемся за их здоровье!
– Боже упаси, чтобы я в сегодняшнюю ночь хоть каплю выпил, – ответил он, – с нечистым шутки плохи. Перепробуйте все штофики, и пойдемте дальше. Меня в этом подвале жуть берет!
– Что же, тогда спокойной ночи, старожилы с берегов Рейна, и сердечное спасибо за усладу! И знайте, я рад услужить вам – и тебе, мой крепкий, пламенный Иуда, и тебе, мой нежный ласковый Андрей, и тебе, мой Иоанн, придите ко мне, я жду вас, жду!
– Царю небесный! – прервал меня старик, он захлопнул дверь и поспешил повернуть ключ в замке. – Видно, вы опьянели от нескольких глотков вина, раз призываете нечистого! Разве не знаете, что сегодняшней ночью, как всегда в ночь на первое сентября, встают духи вина и ходят друг к другу в гости? Пусть мне откажут от места, но, если вы опять поведете такие речи, я убегу. Еще не пробило двенадцати, но ведь в любую минуту из бочки может вылезти винный дух с богомерзкой рожей и до смерти напугать нас!
– Отец, ты бредишь! Но успокойся, я не пророню больше ни слова, чтобы не пробудить твоих винных привидений. А теперь отведи меня к Розе.
Мы продолжали наш путь; мы вошли в новый подвал, в бременский розовый садик. Там лежала она, наша старая Роза, большая, огромная, внушительная и высокомерная с виду. Какая огромная бочка, и каждый бокал стоит золота. Год рождения 1615-й! О, благородная лоза, скажи, где руки, что сажали тебя, где глаза, что радовались твоему цветению, где все те веселые люди, что встречали ликованием твои богатые грозди, когда их срезали на прирейнских холмах, когда давили ягоды, освобождая их от выжимок, и в чаны золотой струей стекал сок? Эти люди исчезли, как волны многоводной реки, омывавшей твой родной виноградник. Где они, где старые господа ганзейцы, почтенные сенаторы, отцы этого старого города, те, что сорвали тебя, благоуханная роза, и пересадили под здешние прохладные своды на радость внукам? Ступайте на Анстариевское кладбище, подымитесь к церкви Божьей матери и возьмите вино на их могилы! Они ушли, и вместе с ними ушло два столетия!
Итак, за ваше здоровье, почтенные господа anno2 1615, и за здоровье ваших достойных внуков, столь гостеприимно протянувших руку мне, чужому в их городе, и угостивших меня здешним бальзамом.
– Так, а теперь спокойной ночи, фрау Роза, – уже приветливее прибавил старик служитель, укладывая штофики в корзиночку, – спокойной ночи и счастливо оставаться. Сюда, сюда, нет, не за угол, на выход из погреба сюда, уважаемый. Не наткнитесь на бочки, идемте, я посвечу.
– Ни в коем случае, – возразил я, – теперь только начнется настоящая жизнь. Пока было лишь предвкушение. Принеси мне туда, в большую залу, коллекционного вина урожая двадцать второго года, так, две-три бутылки. Я видел, как это вино зеленело, при мне его давили. Я уже отдал дань восхищения старым годам, теперь надо воздать должное и моему времени.
Бедняга застыл, выпучив глаза, и, казалось, не верил своим ушам.
– Сударь, грех так шутить, – торжественно произнес он наконец. – Сегодняшней ночью я не останусь здесь ни за какие блага, не останусь, и все тут.
– А кто говорит тебе оставаться? Подай вино, и с богом. Я хочу справить сегодня ночь воспоминаний и облюбовал для этого дела твой погребок, ты мне не нужен.
– Но я не имею права оставить вас одного, – возразил он. – Я, конечно, понимаю, что вы, не во гнев вашей милости будь сказано, погребок не обворуете, но это не разрешается.
– Ну, в таком случае запри меня тут, в помещении, повесь на дверь тяжеленный замок, чтоб я не мог выбраться, а в шесть утра разбуди и получи причитающиеся с меня деньги.
Старик попытался было возражать, но напрасно, в конце концов он поставил на стол три бутылки вина и девять свечей, вытер зеленый бокал, налил мне коллекционного вина двадцать второго года и пожелал, по всему видно, с тяжелым сердцем, спокойной ночи. Он действительно запер дверь на два поворота ключа и повесил еще замок, мне подумалось, скорее из заботливого опасения за меня, чем из пристрастия к своему погребу. Как раз пробило половину двенадцатого. Я слышал, как он сотворил молитву и поспешил уйти. Шаги его доносились все глуше и глуше, но, когда он запер наружную дверь, под сводами в переходах и залах грянуло точно из пушки.
Итак, наконец мы с тобой наедине, о душа, глубоко внизу, под землей. Наверху, на земле, люди спят, им снятся сны, а здесь вокруг меня тоже спят в своих гробах духи вина. О чем грезится им? Может быть, об их быстротечном детстве, может быть, они вспоминают о далеких горах, где они родились, где выросли, о многоводном старике отце, о Рейне, каждую ночь ласково напевавшем им колыбельную песню?
Вспоминаете ли вы солнце – нежную мать, поцелуем пробудившую вас ото сна, когда в ясную весеннюю пору вы впервые открыли глазки и взглянули вниз на чудесную рейнскую землю? Вспоминаете ли вы еще, как май пришел в свой немецкий парадиз и мать одела вас зелеными платьицами – листвой, а старик отец этому очень радовался, поглядывал вверх из своего зеленого ложа, кивал нам и весело журчал у камня Лорелеи?
А ты, душа, вспоминаешь ли и ты розовые дни юности? Мягкие холмы своей родины, покрытые виноградниками, синие воды могучей реки, цветущие долины Швабии? О, упоительная пора сладких грез! Как радовали тебя книги с картинками, рождественские елки, материнская любовь, пасхальные недели и пасхальные яйца, цветы, птицы, оловянные и бумажные солдатики, и первые штанишки и курточки, в которые одели твою маленькую бренную оболочку, гордую своим ростом. Вспоминаешь ли ты, как покойный отец качал тебя на ноге, а дедушка всегда позволял покататься верхом на его трости с золотым набалдашником?
А теперь, со следующим бокалом, шагнем, душа, на несколько лет вперед. Вспомним то утро, когда меня привели в спальню к хорошо нам знакомому человеку, лицо которого стало таким бледным, и я, сам не понимая почему, поцеловал его руку. Ведь не мог же я подумать, что злые люди, которые положили его в шкаф и накрыли черными покрывалами, не мог же я подумать, что они не принесут его обратно? Успокойся, он тоже заснул только на время. А вспоминается ли нам таинственная, полная радости жизнь в дедушкиной библиотеке? Ах, в ту пору мне была знакома только одна книга – мой заклятый враг: противный учебник Брёдера. Я не знал, что дедушкины фолианты переплетены в кожу не только для того, чтобы было удобно строить из них дома и сараи для меня и моего стада!
Вспоминается ли мне еще, как я расправился с немецкой литературой меньшего формата? Ведь я запустил в голову моему брату Лессинга, правда, в ответ он пребольно отлупил меня «Путешествием Софии из Мемеля в Саксонию». В ту пору я, конечно, не думал, что впоследствии сам буду сочинять книги!
И ты, старый замок, ты тоже возникаешь из тумана минувших лет! Как часто твои полуразрушенные ходы, подземелье, крепостная башня, темницы служили нам, детворе, местом шумных игр! В солдат и разбойников, в кочевников и караваны! Как часто я с наслаждением исполнял подчиненную роль казака, в то время как другие дрались, изображая генералов – Платовых, Блюхеров, Наполеона и им подобных. Разве не случалось мне в угоду другу быть порой лошадью? Господи, как чудесно там игралось!
Где они, друзья нашего детства, товарищи тех золотых дней, когда ни чин, ни звание, ни титулы не играли роли? Графы и бароны, надо думать, проводят ныне время, путешествуя по свету, или служат при дворе камергерами; бедняки в качестве подмастерьев бродят по Германии, босиком, с тяжелой котомкой за плечами, охотятся у дверей карет за пфеннигами и ловят их на лету в свои потемневшие от дождя шляпы, и, часто случается, любовное томление ложится на их плечи еще большим бременем, чем котомка. Другие товарищи, те, что преуспели в классической словесности благодаря аккуратности и прилежанию в школе, стали пасторами и сидят в шлафроке или стихаре около своей женушки. Другие теперь чиновники, еще другие аптекари, кое-кто референдарии или еще что-нибудь в том же роде. И только мы с тобой, моя душа, сойдя с обычной стези, сидим здесь, в бременском винном погребе и услаждаем себя вином. Но кем же особенным мы стали? Доктором? Им может стать всякий, у кого хватит ума написать диссертацию.
Однако, душа, я осушаю уже четвертый бокал. Четвертый! Чувствуешь ты некую связь между вином и языком? Между языком и глоткой? Я утверждаю, что здесь перекресток, и тут же у него указатель. На одной стороне написано: «Дорога в желудок». Эта широкая проезжая дорога идет под гору, так и катится, так и катится, так и скользит все по ней. Поэтому более грубая пища обычно отправляется по этой дороге. Другая табличка указателя гласит: «Дорога в голову». По ней отправляются винные духи, изрядное время уже проскучавшие в бочке с презренной грубой материей, и теперь, когда им предоставлена свобода, они посматривают на табличку, указывающую путь направо и вверх. В то время как вино сплошным потоком устремляется налево и вниз, винные духи подымаются вверх и попадают в гостиницу под вывеской «Седалище души». Эти духи – мирный, разумный народ. Они вносят свет в твой дом, душа, пока их всего четверо или пятеро, потом я уж за них не поручусь, они могут содеять в мозгу драку и всяческое бесчинство.
Как прекрасен четвертый период жизни, который мы начали с четвертым бокалом! Нам с тобой четырнадцать лет, о душа! Но как все изменилось за этот короткий срок! Детские игры, солдатики и всякий прочий хлам далеко позади, и мы с тобой, как мне вспоминается, читаем запоем. Теперь мы уже добрались до Гете и Шиллера, мы глотаем их, хоть и не все нам понятно. Или это не так? Нам с тобой уже все понятно? Ты хочешь сказать, что в те годы я уже мог понять любовь, если в прошлое воскресенье на вечеринке поцеловал в темном углу за комодом Эльвиру и отверг нежности Эммы? Варвар! Ведь мог же я предположить, что эта тринадцатилетняя девочка тоже читала «Вертера» и даже кое-какие сочинения Клаурена и почувствовала ко мне любовь. Но сменим декорации. Привет тебе, горная долина, привет тебе, голубая многоводная река! На твоем берегу я провел три долгих года. Прожил те годы, за которые мальчик становится юношей. Привет тебе, монастырский приют, и тебе, крытая галерея с портретами умерших настоятелей, и тебе, церковь с замечательным алтарем, привет и вам, чудесные ландшафты, купающиеся в золотом сиянии утренней зари! Привет вам, замки на скалах, пещеры, долины, зеленые леса! Те долины, те стены монастыря были тесным гнездом, растившим нас, пока мы не оперились, а суровому горному воздуху мы обязаны тем, что не стали неженками.
Я приступаю к пятому бокалу, к пятому столетию нашей жизни. Я медленно прихлебываю благородное рейнское вино и впитываю вас капля за каплей, любезные сердцу воспоминания, вы расцветаете, о годы моей юности, вы источаете чудесное благоухание, подобное тому аромату, что исходит из моего бокала. Взгляд мой повеселел, о душа, ведь вокруг друзья моей юности! Как назвать мне тебя, жизнь студенческих лет – ты и возвышенная, благородная, ты и грубая, варварская, и милая, и беспорядочная, и мелодичная, и отталкивающая, и все же такая приятная и живительная! Как описать мне вас, золотые часы, ликующие звуки братской любви? В каких тонах говорить о вас, чтобы меня правильно поняли? Какими красками изобразить тебя, никем не постигнутый хаос? Мне, мне описать тебя? Ни за что на свете. Твоя смехотворная сторона у всех на виду, она не скрыта от «непосвященных», ее описать можно, но твое внутреннее обаяние знает только рудокоп, который в братской компании спустился с песней в шахту. Золото, вот что принесет он наверх, только чистое золото. Много или мало, не важно. Но это еще не все то ценное, что он добыл. Он не расскажет постороннему, что видел, для слуха непосвященного это прозвучало бы и слишком необычно, и все же слишком изысканно. Там, в глубине, живут духи, не доступные ни зрению, ни слуху постороннего. Там, в подземных залах, звучит музыка, но прозаический слух человека рассудочного воспримет ее как пустую, ничтожную. Но тот, кого она заберет за живое, кто сам запоет вместе с ней, ощутит своеобразное посвящение, даже если он и усмехнется тому, что его фуражка, которую он сохраняет как символ, продырявлена. Старенький мой дедушка! Теперь я знаю, о чем ты думал, когда «барин справлял свой високосный день». У тебя тоже были милые сердцу друзья юности, я знаю, почему дрожала слеза на твоих седых ресницах, когда ты добавлял еще один крест в книгу для памятных записей. Они живы!
Брось, брат, эту бутылку, начнем новую для новых радостей. Наполним шестой бокал! Кто может уразуметь тебя, о любовь?!
Мы были не первые и не последние. Мы читали о любви и думали, что любим. Всего удивительнее и, однако, всего естественнее, что фазы или стадии такого рода любви отражали прочитанное. Разве не рвали мы незабудки и лютики и не преподносили робко букетики докторской дочке в Г., разве не выжимали из глаз слезу только потому, что прочитали: «В полях срывает он лилею и молча преподносит ей…», «…и тайно слезы льет в тиши…»?3 Разве не любили a la Вильгельм Мейстер, то есть не знали, кого мы любим – Эммилину или нежную Камиллу, а то и Оттилию? Разве они все три в изящных ночных чепчиках не подсматривали из-за спущенных штор, когда зимой мы пели у них под окном серенаду и бойко перебирали струны гитары окоченевшими на морозе пальцами? А потом, когда выяснилось, что все они бездушные кокетки, разве мы не кляли тогда безрассудно любовь и не зареклись жениться до тех пор, пока швабы не поумнеют, то есть не раньше сорока лет?
Кто может уразуметь тебя, о любовь? Кто может заречься любить? Ты возникаешь в глазах любимой и через наши глаза украдкой пробираешься в сердце. И все же ты могла так холодно слушать те песни, что я тебе пел, ты не хотела отвечать на взгляды, что я так часто тебе посылал! Мне хотелось быть генералом только ради того, чтобы она с замиранием сердца прочитала в газете мою фамилию: «Генерал Гауф отличился в последнем бою, в сердце ему попало восемь пуль – но он остался жив». Мне хотелось быть барабанщиком только ради того, чтобы у дверей ее дома дать волю своему горю в оглушительной барабанной дроби, а если она в испуге выглянула бы из окна, я поступил бы как раз обратно тем русским барабанным удальцам, которые так наяривают, что ушам больно, я бы, наоборот, от фортиссимо перешел в пиано и в тихом адажио барабанной дроби нашептывал ей: «Я люблю тебя!» Мне хотелось бы стать знаменитым только ради того, чтобы слух обо мне дошел до нее и она с гордостью подумала: «Когда-то он был влюблен в меня». Но, увы! Люди не говорят обо мне, самое большее ей завтра скажут: «Вчера он опять до полуночи валялся в винном погребе!» Добро бы еще я был сапожником или портным! Но это пошлая мысль, недостойная тебя, Адельгунда!
Теперь, верно, в городе уснули все, не спят только двое – самый высокий и самый низкий: сторож наверху, на соборной колокольне, да я внизу, в погребке. Ах, почему я не на колокольне! Каждый час я брал бы рупор, и к тебе в спаленку слетала бы моя песня. Но нет! Ведь я бы нарушил твой сон, мой нежный ангел, пробудил бы тебя от сладких, приятных грез. Здесь же, внизу, меня никто не слышит, итак, я затяну свою песню. Душа! Разве я не подобен солдату, стоящему на посту, чье сердце исходит тоской по родине? И разве эту песню сложил не один из моих друзей?
В ночном дозоре на посту
Стою от вахты за версту
И думу думаю свою
Про милую в родном краю.
Я помню поцелуй ее,
Когда погнали под ружье.
Она мне шапку подала
И на прощанье обняла.
Пусть ночь темна и холодна,
Зато мне милая верна.
Едва подумаю о ней –
Теплей и сердцу веселей.
Сейчас в каморку ты войдешь,
Лампаду робкую зажжешь,
Чтоб помолиться перед сном
О суженом в краю чужом.
Но коли ты сейчас грустишь,
И слезы льешь, и ночь не спишь, –
Не убивайся, срок пройдет,
Господь солдата сбережет.
Пробило полночь в тишине,
Уж на подходе смена мне,
В каморке тихой засыпай
И в снах меня не забывай!4
Вспоминает ли она обо мне в своих сновидениях? Я пел под глухое гудение колоколов. Уже полночь? В полуночном часе есть особая таинственная жуть; чудится, будто тихо-тихо вздрагивает земля, спящие под ней люди, поворачиваясь на другой бок, сотрясают тяжелый кров и спрашивают соседа, что покоится в ближней каморке: «Утро еще не настало?» Совсем иначе доходит вниз ко мне трепетный голос полуночного колокола, совсем иначе, чем в полдень, когда он звонко разносится в светлом чистом воздухе. Тише! В погребе как будто скрипнула дверь? Странно, если бы я не знал, что здесь внизу я совсем один, если бы я не знал, что люди ходят только там, наверху, я бы подумал, что тут, в подвалах, раздаются шаги. Ой, так и есть; шаги ближе; кто-то ищет ощупью дверь, вот нашел ручку, нажимает, но дверь заперта на ключ, закрыта на засовы и задвижки. Сегодня ночью меня не потревожит ни один смертный. Ой, что это? О, ужас! Дверь отворяется!
В дверях стояли двое, они отвешивали церемонные поклоны, уступая друг другу дорогу. Один был длинный, худой, в пышном черном парике с буклями, в темно-красном кафтане допотопного покроя, отделанном золотыми галунами и золототкаными пуговицами; его невероятно длинные, тощие ноги торчали из узких штанов черного бархата с золотыми пряжками у колен, ниже шли красные чулки, а на башмаках тоже красовались золотые пряжки. Шпагу с фарфоровым эфесом он просунул в клапан на штанах. Размахивая маленькой шелковой треуголкой, он отвешивал поклоны, и при этом букли парика водопадными струйками ниспадали ему на плечи. Лицо у него было бледное, изможденное, глаза глубоко запавшие, большой нос огненно-красного цвета. Его спутник, гораздо ниже его ростом, которому он уступал дорогу, имел совсем иное обличье. Волосы у него были прилизаны, смазаны яичным белком, только на висках закручены в две трубочки, похожие на кобуры пистолета. Коса длиной в локоть сползала вдоль спины, на нем был светло-серый мундир с красными отворотами, ноги были всунуты в ботфорты, а упитанный животик – в богато расшитый камзол, доходивший до самых колен; на поясе висела рапира невероятной длины. В его заплывшем жиром лице было какое-то добродушие, особенно в маленьких рачьих глазках. Для вящей учтивости он размахивал огромной войлочной шляпой с загнутыми с двух сторон полями.
После того как я оправился от первого испуга, у меня осталось еще достаточно времени для наблюдений, ведь эти господа в течение нескольких минут выделывали в дверях всякие искуснейшие антраша. Наконец длинный распахнул настежь дверь, взял низенького под руку и ввел его в мою залу. Они повесили шляпы на стену, отстегнули шпаги и молча сели за стол, не обратив на меня внимания. «Разве сегодня в Бремене карнавал?» – подумал я, разглядывая странных гостей. И все же в их облике было что-то жуткое. Не по себе было мне от их застывшего взгляда, от их молчания. Я уже хотел собраться с духом и заговорить, но тут в погребке снова послышался шум шагов. Шаги приблизились, дверь открылась, и четверо новых господ, тоже в старомодной одежде, вошли в зал. Мое внимание особенно привлек один, в охотничьем костюме, с арапником и рогом. Он чрезвычайно весело огляделся вокруг.
– Мое почтение, милостивые государи с берегов Рейна! – произнес басом длинный в красном кафтане, встав и отвесив поклон.
– Мое почтение, – пропищал маленький, – давно не видались, господин Иаков!
– Эй, эй, больше бодрости! Доброго здоровья, господин Матфей! – обратился охотник к маленькому. – И вам тоже, господин Иуда, и вам тоже доброго здоровья! Но что это значит? Где бокалы? Где трубки и табак? Видно, он, старый греховодник, жалкая мокрица, еще не очнулся от сна?
– Вот ведь лежебока! – отозвался маленький. – Этакий соня, лежит себе полеживает на кладбище, но погоди же, я тебя сейчас вызвоню!
С этими словами он схватил колокол, стоявший на столе, и зазвонил и засмеялся резко и пронзительно. Остальные трое вновь пришедших тоже пожелали здравствовать всей честной компании и, поместив в угол палки, шпаги и шляпы, сели за стол. Того, что сидел между охотником и красным Иудой, они называли Андреем. Это был изящный, весьма приятный господин, на его прекрасных, еще юношеских чертах лежала печать строгой грусти, а на нежных губах блуждала кроткая улыбка; он был в белокуром с буклями парике, составлявшем разительный, однако приятный контраст с его большими карими глазами. Напротив охотника сидел крупный мужчина с красными прожилками на щеках и багровым носом. Нижняя губа у него отвисла; он барабанил пальцами по толстому животу. Они называли его Филиппом.
Рядом с ним сидел ширококостный мужчина, похожий на воина; его темные глаза сверкали отвагой, яркий румянец играл на щеках, густая борода затеняла рот. Его называли господин Петр.
Как у истых пьяниц, разговор без вина у них не клеился. Тут в дверях появилась новая фигура: седенький старичок на дрожащих ногах. Голова его казалась черепом, обтянутым сухой кожей, тусклые глаза глубоко запали. Тяжело дыша, втащил он в погреб большую корзину и смиренно поклонился гостям.
– Смотрите-ка! Вот и он, вот Валтасар, старый сторож винного погреба! – приветствовали его гости. – Пошевеливайся, старик, ставь бокалы и подавай трубки! Где это ты застрял? Уже далеко за полночь.
Старик несколько раз не совсем благопристойно зевнул, да и вообще вид у него был заспанный.
– Чуть не проспал первое сентября, – прокряхтел он. – У меня такой крепкий сон, а с тех пор как кладбище замостили, я плохо слышу. Но где же остальные гости? – продолжал он, доставая из корзины и ставя на стол бокалы причудливой формы и внушительных размеров. – Где же остальные? Вас всего шестеро, и старой Розы тоже нет.
– Ставь штофы, – приказал Иуда, – чтобы мы могли наконец выпить, и ступай за ними. Они еще в бочках, постучи своими костяшками и вели им вставать, скажи, мы все уже в сборе.
Но не успел господин Иуда промолвить эти слова, как за дверью раздался громкий шум и смех.
– Гип-гип-ура! Да здравствует девица Роза, ура! И ее драгоценному дружочку Бахусу тоже ура! – раздались голоса, и сидящие за столом таинственные гуляки повскакивали с мест, громко крича: – Она, она тут! Девица Роза, и Бахус, и все остальные, ура! Теперь пойдет настоящее веселье! – И они подымали заздравные чаши, смеялись; толстяк барабанил себя по животу, а бледный сторож добросил шапку до самой подволоки, ловко швырнув ее между расставленными ногами, и присоединился к общему ликованию, крича: «Гип-гип-ура!» – да так пронзительно, что у меня зазвенело в ушах. Какое зрелище! Деревянный Бахус, проскакавший по погребу верхом на бочке, спешился и, как был, голышом, затопал маленькими ножками в зал, своим круглым ласковым личиком и ясными глазками приветствуя всю компанию. Он вел за руку, почтительно, как невесту, старую матрону высокого роста и внушительных объемов. Я по сей день не знаю, как могло это случиться, но тогда меня как осенило: эта дама и есть старая Роза, огромная бочка в Розовом подвале.
И как же эта старая рейнская уроженка разоделась! В молодости она, надо думать, была очень хороша собой. Хотя время и проложило морщины у нее на лбу и возле рта, хотя яркий румянец молодости и сошел с ее щек, все же два столетия не смогли окончательно стереть благородные черты ее красивого лица. Брови у нее, правда, поседели, и на заострившемся подбородке нахально вылезло несколько седых волосков, но приглаженные волосы, красиво окаймлявшие лоб, были каштанового цвета, и только кое-где в них серебрилась седина. Черная бархатная шапочка тесно прилегала к вискам, под стать шапочке была душегрейка из тонкого черного сукна, а из-под нее выглядывал корсаж красного бархата с серебряными крючочками и шнуровкой. На шее блестело широкое гранатовое ожерелье, а на нем висела золотая медаль, пышная юбка коричневого сукна охватывала ее дородное тело, а крошечный белый передничек, отделанный тонким кружевом, глядел плутовато. С одной стороны передничка висела большая кожаная сумка, с другой – связка огромных ключей, словом, Роза была вполне под стать тем почтенным матронам, что anno 1618 гуляли по улицам Кельна или Майнца.
А следом за Розой вошли, размахивая треуголками, еще шесть веселых кумпанов в кое-как надетых на голову париках, в долгополых кафтанах и длинных, богато затканных камзолах.
Уважительно, с должной благопристойностью повел Бахус при общем ликовании свою даму к столу. Она, как то приличествует, поклонилась всей компании и опустилась на стул, рядом с ней сел деревянный Бахус, а Валтасар, сторож при погребе, подсунул под него толстую подушку, иначе Бахусу было бы слишком низко сидеть. И последние шесть собутыльников тоже сели за стол, и тогда я заметил, что здесь и вправду все двенадцать рейнских апостолов, которые обычно покоятся в бременском Апостольском подвале.
– Ну вот мы и собрались, – сказал Петр, когда ликование несколько приутихло, – вот мы и собрались, весь наш молодой веселый народ тысяча семисотого года, как всегда все в добром здравии. Ну, так за ваше здоровье, девица Роза, вы тоже не постарели, все такая же осанистая и красивая, как пятьдесят лет тому назад, за ваше здоровье, живите и здравствуйте, и ваш драгоценный дружок, господин Бахус, пусть тоже живет и здравствует!
– Да здравствует старая Роза, да здравствует! – воскликнули все, подняли бокалы и выпили. А господин Бахус, пивший из большой серебряной чаши, без труда осушил две кварты рейнского, и по мере того, как пил, он на глазах у всех вырастал и толстел, наподобие свиного пузыря, когда его надувают.
– Покорнейше благодарю, уважаемые господа апостолы и родственники, – ответила фрау Розалия, приветливо кланяясь. – Вы, я вижу, все такой же беспутный шутник, господин Петр! Я ни о каком драгоценном дружке ничего не знаю, и негоже так смущать благонравную девицу, – говоря так, она опустила очи долу и осушила бокал внушительного размера.
– Драгоценная моя подружка, – возразил Бахус, смотря на нее нежными глазками и беря ее за руку, – драгоценная моя, к чему так жеманиться? Ты же отлично знаешь, что мое сердце принадлежит тебе уже двухсотую осень и что среди всех остальных я привечаю тебя. Скажи, когда мы отпразднуем свадьбу?
– Ах вы, беспутный плутишка! – ответила старая дева и, покраснев, отвернулась от него. – С вами и четверти часа не просидишь, как вы уже пристаете со своими амурами. Честной девушке и смотреть-то на вас зазорно. Что вы чуть не голышом по погребу бегаете? Могли бы на сегодняшнюю ночь позаимствовать у кого-нибудь штаны. Эй, Валсатар, – позвала она, развязывая свой белый передничек. – Повяжи господину Бахусу этот передник, уж очень у него непотребный вид!
– Розочка, если ты меня сейчас поцелуешь, – воскликнул настроенный на любовный лад Бахус, – я позволю повязать мне на живот эту тряпицу, хоть и вижу в этом злую обиду своему наряду, но чего не сделаешь ради прекрасной дамы!
Валтасар повязал ему передничек, и он нежно склонился к Розе.
– Ах, не будь здесь этой молодежи… – прошептала она, застыдившись и тоже склоняясь к нему.
И все же бог вина приобрел под общие разудалые и разгульные клики и вспомоществование в виде передничка, и желанные проценты. Затем, опять осушив свою чару, он раздулся на несколько пядей вширь и ввысь и запел хриплым голосом:
Ветшают нынче замки все,
Прошло для замков время,
И лишь один стоит в красе,
Им славен город Бремен.
Роскошеству его палат
Сам кайзер, верно, был бы рад.
А в нише за решеткой
Какая там красотка!
Глаза что ясное вино,
Пылают щеки ало,
А платье! – не видал давно
Такого матерьяла!
Наряд из дуба у нее,
Из тонкой бересты шитье,
И зашнурован туго
Железною подпругой.
Да вот беда, ее покой
Закрыт замками прочно,
А я хожу вокруг с мольбой
Порою полуночной
И у решетчатых дверей
Шепчу ей: «Отвори скорей,
Чтоб нам с тобой обняться
И всласть намиловаться».
И так все ночи я без сна
Брожу по подземелью,
Но лишь однажды мне она
Свою открыла келью.
Видать, я ей не угодил,
Себе же – сердце занозил.
Открой, святая Роза,
И вытащи занозу!4
– Вы шутник, господин Бахус, – сказала Роза, когда он закончил нежною трелью, – вы же знаете, что бургомистр и господа сенаторы держат меня в строгом затворничестве и не разрешают ни с кем амуриться.
– Но мне-то ты все-таки могла бы иногда отворить свою спаленку, любезная Розочка, – прошептал Бахус, – у меня охота вкусить от сладости твоего ротика.
– Вы плутишка, – смеясь, ответствовала она. – Вы турок и путаетесь со многими; думаете, я не знаю, как вы любезничаете с ветреной француженкой, мамзель Бордосской, и с мамзель Шампанской, бледноликой, как мел, да, да, у вас скверный нрав, вы не цените верную немецкую любовь.
– Правильно, я тоже так говорю! – воскликнул Иуда и потянулся длинной костлявой рукой к руке девицы Розы. – Я тоже так говорю, а по сему случаю возьмите меня в присяжные кавалеры, дражайшая, а этот голыш пусть за своей француженкой волочится.
– Что? – крикнул деревянный голыш и, разгневавшись, выпил несколько кварт вина. – Что? Розочка, ты хочешь связаться с этим юнцом тысяча семьсот двадцать шестого года рождения? Фи, стыдись; а что касается моего голого наряда, господин умник, так я не хуже вашей милости могу напялить парик, надеть кафтан и прицепить шпагу, но я нарядился так потому, что в теле у меня пламень и я не мерзну в погребе. А то, что девица Роза о француженках говорит, так это чистейшая выдумка. Я к ним иногда хаживал и забавлялся их остроумием, вот и все; я верен тебе, драгоценная моя, и тебе принадлежит мое сердце.
– Нечего сказать, хороша верность! – возразила его дама. – Довольно того, что дошло до нас из Испании, какие у вас с тамошними дамами шашни. О слащавой потаскушке Херес и говорить не стоит, это всем известно, а что вы скажете о девицах Дентилья де Рота и о Сан-Лукар? Да еще о сеньоре Педро Хименес?
– Черт возьми, уж очень вы ревнивы! – рассердился он. – Нельзя окончательно порвать старые связи. А что касается сеньоры Педро Хименес, то здесь вы не правы. Я бываю у нее только из добрых чувств к вам, потому что она ваша родственница.
– Наша родственница? Что вы сказки рассказываете? – заговорили разом все двенадцать и Роза. – Каким это образом?
– Разве вам неведомо, что эта сеньора, в сущности говоря, родом с берегов Рейна. Почтенный дон Педро Хименес вывез ее еще совсем молоденькой лозой с берегов Рейна к себе на родину в Испанию, там она прижилась, и он усыновил ее. Еще и по сию пору, хотя она и приобрела сладостный испанский характер, еще и по сию пору она не утратила сходства с вами, ведь основные фамильные черты не стираются окончательно. У нее та же окраска, тот же аромат, что и у вас; и это делает ее вашей достойной родственницей, драгоценнейшая девица Роза.
– За здравие, за здравие гишпанской тетушки Хименес, – воскликнули апостолы и подняли кубки.
Девица Роза, должно быть, не очень-то доверяла своему обожателю и подняла кубок с кисло-сладкой миной. Но, по-видимому, ей не хотелось продолжать дуться, и она начала разговор.
– А вы, дорогие мои рейнские родственники, все собрались? Да, вот мой нежный, приятный Андрей, вот отважный Иуда, вот пламенный Петр! Добрый вечер, Иоанн, протри сонные глазки, ты какой-то совсем унылый. А ты, Варфоломей, не в меру растолстел и как будто обленился. А вот и веселый Павел, а как оглядывает всех Иаков, все такой же, как и прежде. Но как же так? За столом вас тринадцать! Кто это там в чужеземном наряде, кто его сюда приглашал?
Господи, как я испугался! Все они поглядели на меня с удивлением и, по-видимому, были не очень довольны моим присутствием. Но я собрался с духом и сказал:
– Покорнейше прошу разрешения представиться почтенной компании. Я человек, удостоенный степени доктора философии, только и всего, и в данное время проживаю в здешнем городе в гостинице «Город Франкфурт».
– Но ответствуй, удостоенный степени смертный, как посмел ты пожаловать сюда к нам в такой час, – весьма строго спросил Петр, и его пламенный взор сверкнул молнией. – Кажется, следовало бы знать, что тебе не место в такой высокородной компании.
– Господин апостол, – ответил я и по сей день еще не понимаю, откуда взялась у меня такая смелость, верно, от вина. – Господин апостол, прежде всего, пока мы не добрые знакомые, воспрещаю вам именовать меня на «ты». А что касается вашей высокородной компании, в которую якобы я пожаловал, так это ваша высокородная компания пожаловала ко мне, а не я к ней. Я, милостивый государь, сижу в этом помещении уже три часа!
– А что вы делаете в такой поздний час здесь в винном погребе? – не так гневно, как апостол, спросил Бахус. – В это время земные обитатели обычно спят.
– Ваше превосходительство, на то есть своя причина, – ответил я, – я друг и приверженец благородного напитка, что цедят в здешнем подвале. Недаром высокородный сенат соблаговолил дать мне соизволение нанести визит господам апостолам и девице Розе, что, как то приличествует, я и выполнил.
– Значит, вы охотно пьете рейнское вино? – сказал Бахус. – Ну, так у вас хороший вкус, что весьма похвально, особенно в теперешнее время, когда люди охладели к этому золотому напитку.
– Да, черт побери их всех! – воскликнул Иуда. – Теперь никто не выпьет нескольких кварт рейнского, разве какой-нибудь заезжий доктор или досужий магистр, гуляющий в каникулярное время, да и эти нищие норовят выпить на дармовщинку.
– Покорнейше прошу извинить меня, господин фон Иуда, – прервал я наводящего страх господина в красном кафтане. – Я только отведал немного вашей виноградной крови тысяча семисотого года и некоторых других годов, ею меня потчевал здешний уважаемый бургомистр, а та, что стоит сейчас на столе, помоложе, и расплатился я за нее чистоганом.
– Доктор, не принимайте так близко к сердцу его слова, – сказала девица Роза. – Иуда это не со зла, его только сердит, и тут он нрав, что времена переменились, и народ пошел какой-то вялый.
– Да, – воскликнул Андрей, нежный, приятный Андрей, – мне думается, что теперешнее поколение чувствует себя недостойным благородных напитков, потому сейчас и приходится варить всякую бурду из шнапсов и сиропов и давать ей разные помпезные наименования: Шато Марго Силери, Сен-Жюльен или какие другие в том же роде, и потчевать этой смесью за трапезами, а вокруг рта от нее остается красное кольцо, потому что вино подкрашено, и наутро болит голова, потому что это презренный шнапс.
– Да, раньше, когда мы были еще молодыми, можно сказать юными, в годы девятнадцатый и двадцать шестой, жизнь была совсем другая, – повел речь Иоанн. – Даже еще в пятидесятом году в этих прекрасных покоях кипела жизнь. Каждый вечер, будь то ясной весной, когда солнце светит, будь то зимой, когда падает снег или идет дождь, каждый вечер во всех подвальчиках было полно гостей. Тут, где мы сейчас сидим, восседал во всем своем величии и блеске бременский сенат. Во внушительных париках, при шпагах, с отвагой в сердце, и перед каждым сенатором стояла большая чара.
– Здесь, здесь, не наверху, не на земле, здесь была их ратуша, вот это была зала сената; именно здесь, за стаканом прохладного вина трактовали они о благе города, о соседях и прочих делах. Ежели сенаторы не сходились в суждениях, они не спорили, не пререкались, а бодро подымали заздравную чашу, вино согревало сердца, весело разливалось по жилам, и тогда быстро созревало решение, сенаторы пожимали друг другу руки и по-прежнему оставались друзьями, потому что были друзьями и приверженцами благородного вина. Данное слово было свято, и утром наверху, в присутственной комнате магистрата, приводили в исполнение то, на чем порешили накануне в винном погребе.
– Да, хорошее было время! – воскликнул Павел. – С тех пор и повелось и до сего дня еще ведется, чтобы у каждого сенатора был свой винный листок, ежегодный винный счет. Тем господам, что сидели и пили здесь каждый вечер, не угодно было всякий раз лезть в карман и развязывать кошель. Они велели отмечать на бирке, сколько было выпито, а в Новый год рассчитывались, и в наши дни еще есть славные господа, которые тоже так делают, но таких осталось немного.
– Да, да, детки, – сказала старая Роза, – прежде было иначе, так пятьдесят, сто, двести лет тому назад. Тогда гости приводили в погреб жен и дочерей, и бременские красавицы пили рейнское или вино наших соседей – мозельское – и славились далеко вокруг цветущими щечками, алыми губками и прекрасными сияющими глазами. Теперь они пьют всякую мизерабельную дрянь, вроде чая или чего-то в том же роде, что, как говорят, растет далеко отсюда – у китайцев – и что в мое время женщины пили, когда их одолевал кашель или какая другая хворь. Рейнское, приятное, давно признанное рейнское вино они терпеть не могут. Подумайте только, бога ради, они подливают в него испанское сладкое вино, вот тогда оно им по вкусу, они говорят: рейнское слишком кисло.
Апостолы громко расхохотались, и я невольно вторил им, а Бахус так трясся от хохота, что Валтасару пришлось его держать.
– Да, доброе старое время, – воскликнул толстый Варфоломей, – бывало, бюргеры выпивали два штофа в один присест и не пьянели, а теперь их один бокал с ног валит. Потеряли привычку.
– Много лет тому назад случилась тут прелюбопытная история, – сказала девица Роза и улыбнулась.
– Расскажи, расскажи твою историю, – стали просить все; она выпила изрядно вина, чтобы прочистить глотку, и начала свой рассказ.
– В году тысяча шестисотом, да еще каких-нибудь двадцать, тридцать лет, в немецких землях шла великая война из-за веры. Одни думали так, а другие этак, и, вместо того чтобы разумно за стаканом вина обо всем столковаться, они проламывали друг другу черепа. Альбрехт фон Валленштейн, генерал-фельдмаршал императорской армии, свирепствовал в протестантских землях. Шведский король Густав-Адольф сжалился и пришел им на помощь с большим войском, конным и пешим. Баталий дано было множество, оба войска ожесточенно преследовали друг друга на Рейне и на Дунае, но это и все; не было ни решительного наступления, ни решительного отступления. В те годы Бремен и остальные ганзейские города были нейтральны и не хотели портить отношения ни с той, ни с другой стороной. Но путь шведу лежал через их владения и ему важно было сохранить с ними дружбу и согласие, поэтому он решил отправить к ним посла. Однако всюду было ведомо, что в Бремене все дела вершатся в винном погребе и что сенаторы и бургомистр мастера пить; вот шведский король и боялся, как бы они не насели слишком рьяно на его посла и в конце концов не напоили его допьяна, а тогда он согласится и на невыгодные для шведов условия.
В шведском лагере был полковник, который чудовищно пил. Два-три штофа вина к завтраку были ему нипочем, а вечером на закуску он выпивал полбочонка и затем отлично спал. Вот когда короля мучили опасения, как бы не опоили в бременской погребке его посла, канцлер Оксенштирна рассказал ему о полковнике по имени Кунстштюкер, который может здорово пить. Король обрадовался и приказал позвать полковника.
Перед королем предстал тщедушный человечек, являвший весьма странное зрелище своим бледным лицом с синеватыми губами и огромным медно-красным носом. Король спросил его, сколько он считает возможным выпить, если приняться за дело всерьез. «О, король и повелитель, – ответил тот, – всерьез я за это дело никогда не принимался и до сего дня себя еще не проверял; вино стоит недешево, за день больше семи-восьми штофов не выпьешь, а то влезешь в долги». – «Ну, а сколько, по-твоему, ты все же можешь выпить?» – опять спросил его король, а тот бесстрашно ответил: «Если вы, ваше величество, соблаговолите заплатить, я бы охотно пропустил дюжину штофиков, но мои стремянный Валтасар Бездоннер пьет еще лучше меня». Тогда король послал и за Валтасаром Бездоннером, стремянным полковника Кунстштюкера, и если хозяин был уже достаточно бледен и худ, то слуга был и того бледней и худее, а лицо у него было просто пепельное, словно он всю жизнь пил только воду.
Тогда король повелел посадить полковника и Бездоннера, его стремянного, в палатку и доставить туда несколько бочонков старого хохгеймерского и ниренштейнского, а им приказал проверить свои силы. С одиннадцати утра до четырех вечера они осушили бочонок хохгеймерского и полтора бочонка ниренштейнского. Изумленный король пожаловал к ним в палатку, чтобы посмотреть, в каком они виде. Оба собутыльника твердо держались на ногах, и полковник сказал; «Так, а теперь я отпущу ремень от портупеи, тогда дело лучше пойдет». А Бездоннер расстегнул три пуговицы на колете.
Все присутствующие были потрясены, а король сказал: «Лучших послов в веселый город Бремен мне не найти». И тут же повелел отменно снарядить полковника, равно как и Бездоннера, который должен был изображать писаря. Король и канцлер научили полковника, что говорить во время беседы, и взяли с обоих слово за все время пути пить только воду, дабы встреча в погребе закончилась великой удачей. Полковнику Кунстштюкеру велено было мазать свой красный нос искусно изготовленной помадой, пока он не побелеет, чтобы в погребе не раскусили, каков их собутыльник.
Совсем истощенные от водной диеты, прибыли они в город Бремен, посетили бургомистра, и тот сказал сенату: «Ой, каких двух бледных и худых кумпанов прислал к нам швед. Вечером мы поведем их в наш погреб и напоим допьяна. Я беру на себя посла, а доктор Перец займется писарем». Итак, после вечернего звона их торжественно проводили в погребок, бургомистр вел полковника Кунстштюкера, а доктор Перец, тоже пивший на славу, вел под руку стремянного, одетого посольским писарем и державшегося со скромным достоинством. Следом шли господа сенаторы, приглашенные на переговоры. Здесь, в этом самом зале они сели за стол и сперва откушали тушеного зайца, ветчины и селедки, чтобы набраться сил к предстоящей выпивке, затем посол, как то и положено, хотел приступить к переговорам, а писарь вытащил из сумки пергамент и перо, но бургомистр сказал: «Нет, ни в коем случае, почтенные господа, так не годится; в Бремене не заведено вершить дела всухую; по обычаю наших отцов и дедов надо сперва выпить за здоровье гостей». – «Я, собственно, не пьющий, – ответил полковник, – но раз вашему высокородию так желательно, я глоточек выпью». И они начали пить и вести разговоры о мире, о войне и об имевших место баталиях. Бургомистр и доктор, чтобы подать гостям хороший пример, усердно пили за их здоровье и сильно разгорячились. При каждой новой бутылке послы извинялись, они-де к вину не привычны, оно уже и так ударило им в голову. Бургомистр был этому рад и в свое удовольствие пропускал чарку за чаркой и скоро уже не знал, с чего начать, но, как обычно бывает в этом удивительном состоянии, подумал: «Посол уже пьян, и писаря доктор уже здорово напоил», и посему сказал: «А теперь приступим к делу». Шведы были довольны и повели себя так, будто они и впрямь пьяным-пьяны, и со своей стороны стали усердно пить за здоровье хозяев.
Вот так все пили, судили и рядили и опять пили, пока бургомистр не заснул на полуслове, а доктор Перец не свалился под стол. Тут за дело взялись прочие господа сенаторы, они пили за здоровье гостей и трактовали о делах; но если полковник пил здорово, то и стремянный не отставал от него; пять купорщиков неустанно бегали взад и вперед и наполняли бокалы, потому что вино исчезало мгновенно, словно его выливали в песок. В конце концов гости напоили хозяев, так что все сенаторы, кроме одного, свалились под стол.
Этого единственого оставшегося на ногах рослого здорового мужчину звали Вальтер. В Бремене о нем говорили всякое, и, не будь он сенатором, его бы давно обвинили в черной магии и колдовстве. Господин Вальтер, в сущности, был ремесленником – золотых дел мастером, но в гильдии он обратил на себя внимание, стал старшиной цеха, а затем прошел и в сенат. Он не ударил лицом в грязь, пил вдвое больше, чем оба гостя вместе взятые, им даже стало жутковато, – он рассудка не потерял, а у полковника уже мутилось в глазах и в голове словно колесо вертелось. Каждый раз, осушив бокал, сенатор Вальтер совал руку под шляпу, и стремянному чудилось, будто над его черными, как вороново крыло, волосами подымается голубоватое облачко, легкое, как дымка. Вальтер пил и пил, пока полковник Кунстштюкер не положил тихонько голову на живот бургомистру и не погрузился в блаженный сон.
Тут сенатор Вальтер со странной улыбкой обратился к писарю: «Любезный кумпан, вид у тебя важный, но, сдается мне, ты лучше справляешься со скребницей, чем с пером». Писарь обомлел. «Что вы имеете в виду, сударь? – сказал он. – Я надеюсь, вы это не всерьез, не забывайте, я писарь посольства его величества».
«Ха-ха-ха! – громко расхохотался Вальтер. – С каких это пор подлинные посольские писари ходят в таких балахонах и пишут на заседаниях такими перьями?» Тут стремянный увидал, что он в своей рабочей одежде конюха, а в руке у него – вот так штука! – самая обыкновенная скребница. Он пришел в ужас; понял, что правда обнаружена, и от страха не знал, куда деться. Но господин Вальтер как-то странно и насмешливо улыбнулся и одним махом выпил за его здоровье полторы кварты вина, потом сунул руку за ухо, и стремянный явственно увидел, как у него над головой поднялась легкая дымка. «Боже меня упаси, сударь, пить с вами впредь, – вырвалось у него, – вы, как я теперь думаю, чернокнижник и на всякие штуки мастер».
«Это еще как сказать, – ответил Вальтер спокойно и дружелюбно, – но тебе, дражайший конюх, мало поможет, если ты и дальше будешь пытаться меня перепить: я ввинтил себе в мозг крошечный кран, через него винные пары выходят наружу. Вот смотри!» Он выпил большой бокал вина, поворотился затылком к Бездоннеру, разобрал на макушке волосы – и, гляди-ка! – у него из головы, словно из бочки, торчал крохотный серебряный кран. Он повернул втулочку, и сразу же оттуда вышел голубоватый дымок. Теперь стало понятно, что винный дух нисколько не отягощает мозг.
От удивления стремянный всплеснул руками. «Вот так изобретение, господин колдун! – воскликнул он. – А не можете ли вы за спасибо ввинтить и мне в голову такую штучку?» – «Нет, так дело не пойдет, – не спеша ответил Вальтер, – видно, вы недостаточно сведущи в тайных науках, но вы полюбились мне, уж очень здорово вы пьете, поэтому я готов услужить вам. Вот сейчас у нас вакантное место управителя в бременском погребке; Валтасар Бездоннер, брось службу у шведов, там больше воды, чем вина, пьют, и послужи высокородному сенату города Бремена. Если ты в тот или иной год вылакаешь больше вина, чем положено, не беда, выпишем еще; такого молодчика, как ты, нам давно не хватало. Валтасар Бездоннер, если хочешь, я тебя завтра же сделаю управителем погреба. Не хочешь – как хочешь, только тогда весь город узнает, что швед вместо писаря послал нам конюха». Предложение пришлось Валтасару по вкусу, словно его угостили благородным вином. Он оглядел огромное винное царство, хлопнул себя по животу и сказал: «Согласен». Затем они договорились по разным пунктам: что станется со злосчастной душой Бездоннера после кончины его бренного тела. Он стал управителем бременского винного погреба, а полковник Кунстштюкер отправился обратно в шведский лагерь, не договорившись ни до чего определенного. А когда императорское войско вошло в город, бургомистр и сенат были рады, что не связали себя обязательствами со шведом, хотя и не могли понять, как это так вышло.
Вот что рассказала Роза. Апостолы и я поблагодарили ее и очень посмеялись над обоими посланцами, а Павел спросил:
– А что сталось с веселым гулякой Валтасаром Бездоннером? Так и остался управителем погреба?
Роза оглянулась и, усмехнувшись, показала на угол залы.
– Вот он, веселый бражник, в том углу сидит, как и двести лет тому назад.
Мне стало страшно, когда я поглядел туда: в углу сидел бледный, изнуренный человек, он плакал и рыдал, неустанно запивая свое горе рейнским вином, и это был не кто иной, как тот управитель погреба Валтасар, который явился сюда с кладбища, откуда его вызвонил Матфей.
– Так как же, старик, значит, раньше чем стать купорщиком, ты служил в стремянных у полковника Кунстштюкера и даже был то ли писарем, то ли секретарем посольства? – обратился к нему Иаков. – Какие же условия поставил тебе господин с краном в черепной коробке?
– Ох, сударь, – простонал Валтасар, тяжело вздыхая из самой глубины души, и стоны его звучали так жутко, словно ему вторила на фаготе смерть, смерть, которая пребудет во веки веков. – Ох, сударь, не требуйте, чтобы я рассказал.
– Говори, не таись! – закричали апостолы. – Чего хотел от тебя этот спиртоотсос, этот винный духоотвод? Чего он хотел от тебя?
– Моей души.
– Несчастный, – очень серьезно сказал Петр. – И что же он предлагал за твою несчастную душу?
– Вино, – пробормотал Валтасар еле внятно, и мне показалось, что в голосе его звучит безнадежность.
– Говори яснее, старик, как он обделал сделку с твоей душой?
Валтасар долго молчал, наконец он заговорил:
– Зачем расспрашивать, милостивые господа? Это страшно, а вам не понять, что значит потерять душу.
– Верно, – согласился Павел, – мы веселые духи, дремлем в вине и радуемся вечному, ничем не омраченному счастью и благоденствию, вот потому-то на нас и не может напасть страх. Кто обладает властью над нами, кто может опечалить, напугать нас? Ну, так рассказывай!
– Но за столом сидит человек, он этого не вынесет, – сказал мертвец, – при нем я не решусь говорить.
– Смелей, смелей, – сказал я, дрожа от страха. – Я могу вынести определенную порцию ужасов, и, в конце концов, что тут такого? Просто вы оказались у черта в лапах.
– Сударь, прочитали бы вы лучше молитву, – пробормотал старик, – но раз вы этого хотите, так слушайте: с человеком, который в ту ночь сидел со мной тут, в этом самом подвале, приключилось злое дело. Он продал душу дьяволу, а выкупить ее мог только при одном условии: заменить другой душой. Он уже не раз имел на примете всяких людей, но им всегда удавалось от него улизнуть. Меня он держал крепче. Я вырос, как дикарь, неучем, а ведя военную жизнь, много размышлять не приходится. Когда едешь по полю битвы и луна освещает землю, а на ней лежат скошенные смертью друзья и враги, смотришь и думаешь: «Они умерли и уже не живут»; о душе я не очень-то помышлял, а о небе и преисподней и того меньше. Раз жизнь так коротка, то надо ею как следует насладиться, а вино и игра были моей страстью. Это приметил слуга преисподней и в ту ночь сказал мне: «Пожить лет двадцать – тридцать тут, в спиртном царстве, в винном раю и попить сколько душа хочет, вот это жизнь, так ведь, Валтасар?» – «Да, сударь, – ответил я, – но чем я могу заслужить такую жизнь?» – «Что, по-твоему, приятнее, – продолжал он, – жизнь в свое удовольствие здесь, на земле, или то, что будет потом, когда и знать-то уже не знаешь, живешь ты еще и пьешь ли вино?» Я поклялся страшной клятвой и сказал: «Мои бренные останки отправятся туда же, где лежат останки моих собутыльников. Мертвый ничего не чувствует и ни о чем не думает. Я знаю это по тем своим товарищам, которым пуля пробила череп, посему я предпочитаю жить и радоваться жизни». Он же сказал мне; «Ежели ты отречешься от того, что будет потом, то нет ничего легче сделать тебя управителем этого погреба, напиши только свое имя вот тут, в книжке, и поклянись крепкой клятвой». – «Что будет со мной потом, меня мало заботит, – сказал я. – Я согласен стать управителем здешнего погребка навсегда и навечно, на все время, пока я живу, а там, когда меня закопают, пусть дьявол или любой, кто захочет, возьмет все то, что от меня останется».
Когда я произнес эти слова, мы оказались уже не вдвоем: рядом со мной сидел третий, он протягивал книжку, в которой я должен был поставить свою подпись. Но это был не ювелир, а кто-то другой.
– Кто же это был? Говори! – в нетерпении торопили апостолы.
Глаза старого управителя страшно сверкнули, а бледные губы задрожали. Он несколько раз пытался заговорить, но, казалось, судорога сжимает ему горло. Потом он вдруг решительно и смело посмотрел в темный угол, осушил свой бокал и бросил его об пол.
– Раскаяние ничему не поможет, старик Валтасар, – сказал он, смахивая с ресниц крупные слезы, – рядом со мной сидел дьявол.
При этих словах всех охватила жуть, безнадежная жуть. Апостолы глядели серьезно, молчали, уставившись в свои бокалы, Бахус закрыл лицо руками, а Роза побледнела и притихла. Казалось, все затаили дыхание, слышно было только, как тревожно стучат зубы в черепе мертвеца.
– Когда я был еще маленьким, послушным мальчиком, отец научил меня писать мою фамилию и имя. Я поставил свою подпись в книжке, которую держал в когтях дьявол. С той поры я зажил на славу, во всем Бремене не было человека веселее Валтасара, управителя винным погребом. Я пил все самые лучшие, самые превосходные, вкусные вина, что были тут. В церковь я не ходил, а когда начинался благовест, я шел к самой лучшей бочке и пил сколько захочу. Когда я состарился, на меня стал нападать страх, а когда я думал о смерти, по спине пробегал холодок. Жены, которая плакала бы обо мне, у меня не было, детей, которые утешили бы меня, тоже не было; поэтому, когда меня одолевали думы о смерти, я пил до потери сознания и засыпал. Так я и жил долгие годы, волосы у меня поседели, ноги и руки ослабли. Я жаждал успокоиться в могиле. И вот как-то я проснулся и в то же время чувствовал, что никак не могу проснуться по-настоящему: глаза не желали открываться; когда я хотел встать с постели, пальцы не гнулись, а ноги лежали неподвижно, будто не ноги, а чурбаны. К моей кровати подошли люди, пощупали меня и сказали: «Старик Валтасар умер».
Умер, подумал я и испугался: умер и не сплю? Умер и думаю? Меня охватил несказанный страх, я чувствовал, что сердце остановилось, и все же что-то во мне шевелится и сжимается, не тело – тело лежит неподвижное, мертвое; так что же это такое? И мне стало страшно-страшно.
– Твоя душа! – невнятно произнес Петр.
– Твоя душа! – прошептали вслед за ним и другие.
– Потом с меня сняли мерку, длину и ширину, чтобы сколотить шесть досок, и положили меня в этот ящик, а под голову подсунули твердую, набитую стружками подушку и заколотили гроб, а душа моя устрашалась все больше и больше, потому что не могла уснуть. Потом я услышал похоронный звон соборного колокола, меня подняли и понесли, и никто не пролил ни слезинки. Меня отнесли на кладбище при церкви Божьей матери, там вырыли могилу; я и по сей день еще слышу, как терлись веревки, когда их тащили вверх из могилы, а я уже лежал внизу, потом в могилу набросали земли и камней, и наступила тишина.
Но когда настал вечер, когда на всех колоколах пробило десять, одиннадцать часов, моя душа задрожала еще сильней. «Что будет с тобой, что будет с тобой?» – думал я. Я хотел прочитать молитву, которую помнил еще с детских лет, но губы мои не шевелились. Тут пробило двенадцать, и тяжелый могильный камень был сброшен одним рывком, а гроб содрогнулся от страшного удара…
В этот миг ударом, от которого пошел гул по всему подвалу, вышибло дверь нашего зала, и на пороге появилась высокая белая фигура. Я был так взбудоражен вином и ужасами этой ночи, так сбит с толку, что не вскрикнул, не вскочил, как, вероятно, поступил бы в другое время, а терпеливо ждал то страшное, что должно было свершиться. Первой моей мыслью было: сейчас появится дьявол.
Помните ту страшную минуту в «Дон Жуане», когда все ближе и ближе слышатся гулкие шаги, когда вбегает с криком Лепорелло и статуя Командора, сойдя со своего боевого коня на памятнике, приходит на пир? К нам в подвал вошла размеренным, гулко отдающимся шагом гигантская каменная фигура в панцире, но без шлема, с огромным мечом в руке. Бездушное лицо застыло в неподвижности, и все же каменные уста разомкнулись:
– Желаю здравствовать, любезные рейнские лозы, не мог не прийти в гости к прекрасной соседке в день ее рождения. Желаю здравствовать, девица Роза. Разрешите сесть за ваш пиршественный стол?
Все с изумлением глядели на гигантскую статую, но фрау Роза прервала молчание, захлопала от радости в ладоши и воскликнула:
– Боже мой! Да ведь это каменный Роланд, что уже не одно столетие стоит в нашем добром городе Бремене на соборной площади. Как приятно, господин рыцарь, что вы соблаговолили оказать нам такую честь. Оставьте щит и меч и располагайтесь как дома. Не желаете ли вы сесть во главе стола рядом со мной? О господи, как я рада!
Деревянный бог вина, за это время изрядно выросший, бросал косые взгляды то на каменного Роланда, то на наивную даму своего сердца, столь громко и необузданно выражавшую свою радость. Он пробормотал что-то о незваных гостях и нетерпеливо задрыгал ногами. Но Роза пожала ему под столом руку и утихомирила его нежным взглядом. Апостолы подвинулись ближе друг к другу и уступили Роланду место возле старой девы. Он положил меч и щит в угол и довольно неловко сел на стул. Но, увы! Стульчик был рассчитан на добропорядочных бременских горожан, а не на каменного великана, – стул треснул и сломался, и Роланд растянулся на полу.
– Только жалкое поколение могло сколотить эту рухлядь, в мое время даже хрупкая девица, сев на этакую скамеечку, продавила бы сиденье, – сказал герой и медленно встал. Валтасар подкатил к столу бочку и пригласил рыцаря сесть. Бочка выдержала, только две клепки треснули. Валтасар наполнил большой бокал вином и поднес Роланду. Тот сжал его своей широкой каменной дланью: трах! бокал раскололся, и вино полилось Роланду по пальцам.
– Эх, не мешало бы вам снять каменные перчатки, – сердито проворчал Валтасар и подал ему серебряный кубок в полторы кварты: в старые времена кубки таких размеров звались четвертинами. Рыцарь взял его, только кое-где от его каменных пальцев остались вмятины, разинул огромную пасть и влил в нее вино.
– По вкусу ли вам вино? – спросил Бахус гостя. – Вы, верно, давно вина не пивали?
– Клянусь мечом, вино отменное. Какое это вино?
– Красное энгельгеймское, государь мой, – ответил управитель погреба.
При этих словах каменные глаза рыцаря приобрели жизнь, заблестели, ласковая улыбка скрасила изваянные черты, рыцарь с наслаждением погрузил взор в кубок.
– Энгельгейм, сладостное, любезное сердцу имя, – молвил он. – Рыцарский замок моего славного повелителя. Значит, и по сию пору еще не забыто твое имя и цветут еще лозы, некогда посаженные Карлом в его Энгельгейме? Вспоминают ли еще и Роланда и Каролуса Магнуса, его наставника?
– Это вам надо спросить у того человека, что сидит вон там, – ответил Иуда. – Мы больше с землей дела не имеем. Он назвался доктором и магистром, надо полагать, он может вам сообщить то, что касается человеческого рода.
Гигант вопрошающе взглянул на меня.
– Благородный паладин, – сказал я, – хоть в наши дни род людской измельчал и обмяк и люди в своем скудоумии прилепились к настоящему и не заглядывают ни в будущее, ни в прошлое, все же память у нас не окончательно иссякла. Мы чтим великих и славных мужей, которые некогда ступали по земле нашей родины, мы и по сие время живем в их тени. Есть еще чувствительные люди, которые, когда их донимает уж слишком будничное, бесцветное настоящее, спасаются в прошлое, при упоминании прославленных времен сердца их бьются сильней, они почтительно бродят среди руин, где некогда сидел в своем подземном покое великий король, где вокруг него стояли рыцари, где звучала многозначительная речь Эгинхарда, где милая Эмма подносила кубок самому верному паладину Карла. А где упоминается имя вашего великого властителя, там не забывают и Роланда. Вы были его ближайшим соратником, и ваше имя тесно связано с ним и в песне, и в предании, и в памятных нам образах. Последний призывный звук вашего рога все еще звучит из-под земли в Ронсевале и будет звучать до тех пор, пока не сольется с трубным гласом, возвещающим Страшный суд.
– Значит, мы не напрасно жили на свете, добрый старый Карл, потомство чтит наши имена, – молвил рыцарь.
– Да, если бы люди позабыли имя того, кто первый насадил виноград на рейнских берегах, им было бы впору хлебать воду из Рейна, они были бы недостойны пить виноградную кровь с его холмов, – воскликнул пламенный Иоанн. – Так подымем бокалы, любезные кумпаны и апостолы, подымем бокалы за здравие нашего достойного родоначальника, за здравие Карла Великого!
Все подняли кубки, и Бахус сказал:
– Да, это было прекрасное, славное время, и я, как и тысячу лет тому назад, радуюсь, вспоминая о нем. Там, где теперь на холмах раскинулись чудесные виноградники от берега Рейна до горных хребтов, где в рейнской долине виноградные лозы одна за другой взбегают вверх и сбегают вниз по склонам, там прежде простирался дремучий лес. И вот однажды король Карл Великий глядел из своего Энгельгеймского замка на горы, и он увидел, что солнце уже в марте месяце одевает теплом холмы, сгоняет снег в Рейн, что на деревьях рано распускаются листья, а молодая трава спешит из земли навстречу весне. И тогда у него родилась мысль вырастить виноград там, где до того стоял лес.
Тут на рейнских холмах, около Энгельгейма, закипела деятельная жизнь, лес исчез, земля была готова воспринять в свое лоно виноградную лозу. Тогда Карл послал людей в Венгрию и Испанию, в Италию и Бургундию, в Шампань и Лотарингию, повелев привезти виноградные лозы. Он посадил в лоно земли голые ветки.
И я возрадовался от всего сердца, что царство мое распространилось и на немецкую землю, а когда там зацвели первые лозы, я с блестящей свитой вступил в Рейнгау. Мы расположились на холмах и потрудились на славу и в воздухе и на земле. Мои слуги протянули тончайшие сети, чтобы ловить весеннюю росу и уберечь от нее лозы, они поднимались наверх, приносили в долину теплые солнечные лучи и заботливо омывали ими маленькие виноградники, они черпали воду из зеленого Рейна и поили нежные корни и листья. А осенью, когда новорожденное дитя рейнских холмов лежало в колыбели, мы устроили веселое празднество и пригласили на пиршество все четыре стихии. Они богато одарили младенца и положили принесенные на память подарки к нему в колыбель. Огонь прикрыл дитяти глаза ладонью и сказал: «Пусть пребудет с тобой мой знак навеки, пусть живет в тебе чистый, ласковый пламень, пусть придаст он тебе цену». Потом приблизился воздух в легком золотом одеянии, он положил руку на голову дитяти и сказал: «Пусть будет светлой и нежной твоя окраска, как золотистая утренняя кромка на холмах, как золотистые волосы рейнских красавиц». И вода в серебряном уборе склонилась над дитятей и прожурчала: «Я всегда буду близко от твоих корней, пусть твое потомство вечно зеленеет и цветет, пусть раскинется оно по всему берегу полноводного Рейна». А земля подошла и поцеловала дитя в уста и пахнула на него сладостным дыханием. «Ароматы всех моих трав, нежные запахи моих цветов собрала я тебе на память, – сказала она. – Самые благовонные масла, амбра и миро уступят твоему нежному букету, а прелестнейших твоих дочерей нарекут в честь царицы цветов именем Роза».
Так сказали стихии; мы порадовались на драгоценные дары, украсили дитя свежими виноградными листьями и послали в королевский замок. А король изумлялся, глядя на прекрасного младенца, пестовал и лелеял его, а лозу, выросшую на берегу Рейна, ценил наряду с самыми дорогими своими сокровищами.
– Андрей, любезный братец, – воскликнула девица Роза, – у тебя такой сладостный, такой нежный голос, не споешь ли ты песню во славу рейнской земли и ее вин?
– Я спою, ежели это послужит вам на радость, благородная дева, и не будет в тягость вам, благородный Бахус, и для вас, государь мой, рыцарь Роланд, также будет иметь свою приятность.
И он пропел очаровательную песню, мелодичную и чувствительную, гармонично и изящно сложенную, что явно указывало на старого мастера 1400–1500-х годов.
Слова вылетели у меня из головы, но мелодию, простую и прелестную, мне все же хотелось бы вспомнить. Петр вторил певцу звучным прекрасным голосом. Казалось, всех охватило желание петь: когда кончил Андрей, не дожидаясь просьб, запел Иуда, а за ним последовали и остальные. Даже Розе, хотя она и очень жеманилась, все же пришлось спеть песню 1615 года, которую она исполнила приятным, чуть дрожащим голосом. Роланд пропел громовым басом военный гимн франков, из которого я понял всего несколько слов, и, наконец, когда все кончили, они поглядели на меня. Роза кивнула, предлагая мне тоже выступить. И тогда я пропел:
На Рейне, на Рейне лозой виноградной
Немецкое зреет вино.
Спускаясь по берегу тенью прохладной,
Отраду сулит нам оно.4
Слушая слова песни, они сидели, затаив дыхание, и переглядывались, они придвинулись ближе, а те, что сидели поодаль, вытягивали шеи, будто боясь упустить хоть слово. Я приободрился, голос окреп, песня лилась все громче и громче, – выступление перед такой публикой вдохновило меня. Старая Роза кивала в такт головой, подпевая мне, а глаза апостолов светились радостной гордостью. Когда я замолк, они обступили меня, они жали мне руки, а Андрей коснулся моих губ нежным поцелуем.
– Доктор, вот это песня! Как радует она душу! – воскликнул Бахус. – Доктор, сердечный друг, скажи, ты сам ее сложил, она зародилась в твоем удостоенном докторской степени мозгу?
– Нет, ваше превосходительство, я не такой мастер по части песен. Того, кто ее сложил, уже давно похоронили. Его звали Маттиас Клаудиус.
– Доброго-доброго человека ценили – доброго-доброго похоронили, – вздохнул Павел. – Какая светлая, какая веселящая песня, светлая и чистая, как натуральное вино, смелая и веселящая, как духи, живущие в вине, приправленная пряной шуткой, веселым юмором, как тот пряный аромат, что исходит из бокала чистого вина.
– Государь мой, он давно умер, это я знаю, но другой великий смертный сказал: «Доброе вино – хороший товарищ… и кому не случится иной раз опьянеть». И я полагаю, что друг Маттиас тоже так думал, пируя с друзьями, иначе он вряд ли сложил бы такую чудесную песню, которую и по сей день распевают все веселые люди, бродя среди рейнских холмов или потягивая благородное рейнское вино.
– Так эту песню и вправду поют? – воскликнул Бахус. – Знаете, доктор, меня это радует, пожалуй, не так уж оскудел род людской, раз еще не забыты такие светлые, прекрасные песни, раз люди еще поют их.
– Ах, государь мой, – печально молвил я, – очень много у нас людей с узкими взглядами, таковы ханжи от поэзии, они не желают признавать подобные песни за стихотворения, как иные святоши не считают «Отче наш» за молитву, для них такая молитва недостаточно мистична.
– Дураки были во все времена, сударь мой, – возразил мне Петр, – а кроме того, пусть лучше всякий за собой примечает. Но раз мы заговорили о вашем поколении, то не соблаговолите ли вы рассказать нам, что делалось на земле за последний год.
– Если это интересно присутствующим здесь господам и дамам… – робко начал я.
– Смелей, смелей, – воскликнул Роланд, – что до меня, то рассказывайте хоть о событиях за последние пятьсот лет, я на своей соборной площади вижу только папиросников, пивоваров, пасторов и старух.
Остальные поддержали его.
– Во-первых, что касается немецкой литературы… – начал я свое повествование.
– Стой! Manum de fabula!5 – прервал меня Петр. – Какое нам дело до вашей жалкой мазни, до ваших мелочных, мерзких, уличных перебранок и трактирных потасовок, до ваших стихоплетов, лжепророков и…
Я испугался: если этим господам не интересна даже наша чудесная, великолепная литература, о чем мне тогда рассказывать? Я подумал и снова начал:
– Очевидно, за последний год Жоко, если говорить о театре…
– О театре? О театре не надо! – прервал меня Андрей. – К чему нам слушать о ваших кукольных комедиях, марионетках и прочей ерунде. Уж не думаете ли вы, что нас хоть сколько-нибудь трогает, освистан или нет какой-то там ваш сочинитель комедий? Неужели на земле не происходит теперь ничего интересного, ничего имеющего всемирно-историческое значение, ничего, о чем стоило бы рассказать?
– Ах, избави бог, – возразил я. – Всемирной истории у нас больше нет, по этой части теперь остался только франкфуртский союзный сейм. У наших соседей, пожалуй, что-то еще иногда случается. Вот, например, во Франции иезуиты опять вошли в силу и завладели скипетром, а в России, говорят, была революция.
– Вы путаете названия стран, мой друг, – сказал Иуда. – Верно, вы хотели сказать, что в России опять появились иезуиты, а во Франции произошла революция.
– Никак нет, господин Иуда Искариотский, – ответил я, – все, как я сказал, так и есть.
– Вот тебе на! – задумчиво пробормотали они. – Очень странно, всё вверх дном.
– И нигде не воюют? – спросил Петр.
– Немножко воюют греки с турками, но скоро кончат.
– Вот это прекрасно! – воскликнул паладин и ударил каменным кулаком по столу. – Меня уже давным-давно приводит в ярость, что христианский мир так подло позволяет мусульманам держать в оковах этот великий народ. Поистине это прекрасно. Вы живете в хорошее время, ваше поколение благороднее, чем я думал. Значит, рыцарство Германии, Франции, Италии, Испании и Англии выступило, чтобы сразиться с неверными, как сражалось с ними в прежнее время под знаменами Ричарда Львиное Сердце? Генуэзский флот бороздит Архипелаг, переправляя в Грецию тысячи воинов, королевская орифламма приближается к стамбульскому берегу, и в первых рядах развевается австрийский стяг? Да, для такого сражения я бы охотно опять сел на коня, извлек бы мой добрый меч Дюрандаль и затрубил бы в призывный рог, чтобы все герои, что покоятся в могиле, встали из гроба и вместе со мной ринулись в бой с турками.
– Благородный рыцарь, – ответствовал я, краснея за наше поколение, – времена изменились. При теперешнем положении вас, вероятно, арестовали бы как демагога, потому что ни габсбургских знамен, ни орифламмы, ни британской арфы, ни испанских львов в теперешних сражениях не видно.
– Кто же, если не они, вступили в таком случае в бой с полумесяцем?
– Сами греки.
– Греки? Неужели? – воскликнул Иоанн. – А другие государства? Чем же заняты другие государства?
– Их послы еще не отозваны из Порты.
– Смертный, что ты говоришь? – застыв от удивления, спросил Роланд. – Кто может оставаться безучастным, когда где-нибудь народ отстаивает свою свободу? Пресвятая богородица, что делается на свете! Поистине камни и те возопили бы!
Произнеся последние слова, он от ярости так сжал кубок, словно тот был не из серебра, а из олова, и вино брызнуло на своды. Загремев, встал рыцарь из-за стола, взял свой щит и длинный меч и громыхающим шагом вышел из зала.
– Ну и гневливый же кумпан каменный Роланд, – когда с шумом захлопнулась дверь, пробормотала Роза, стряхивая с косынки капли вина. – Ишь что выдумал, каменный дурень, – на старости лет собрался воевать. Покажись он только да при таком росте, его тут же без всякого разговора упекут правофланговым в Бранденбургский гренадерский полк.
– Девица Роза, – сказал Петр, – он гневлив, это верно. Он мог бы, конечно, выйти отсюда по-иному, но, вспомните, ведь он был в свое время Гипово, неистовым; раздавить серебряный кубок или обрызгать вином даму, это что, он и не то еще выкидывал. Разобравшись как следует, я не могу посетовать на него за горячность; ведь в свое время он тоже был человеком, да к тому же еще славным паладином великого короля, храбрым рыцарем, который, захоти того Карл, один ринулся бы в бой против тысячи мусульман. Ему стало стыдно, вот он и разгневался.
– А ну его, каменного великана! – сказал Бахус. – Меня он стеснял, да, стеснял. Этот олух в нашу компанию не годится, он все время с насмешкой взирал на меня с высоты своих десяти футов. Только бы помешал нашему веселью, испортил бы мне все удовольствие. Ничего у нас из танцев не вышло бы, где уж ему при его-то негнущихся каменных ногах пускаться в пляс, тут же и свалился бы.
– Ура, ура! Танцы, ура, танцы! – закричали апостолы. – Валтасар, давай музыку!
Иуда встал, надел огромные перчатки с крагами, доходившими ему до локтя, церемонно поклонился девице Розе и сказал:
– Высокочтимая и прекраснейшая девица Роза, осмелюсь просить вас об особой чести – подарить мне первый…
– Manum de…6 – осадил его патетическим жестом Бахус. – Бал аранжирован мною, посему я должен его открыть. Вы, милостивый государь, танцуйте с кем вам будет угодно, моя Розочка будет танцевать со мной. Правда, сокровище мое?
Она, покраснев, присела в знак согласия, а Иуду апостолы подняли на смех. Меня бог вина подозвал величественным жестом.
– Доктор, вы музицировать умеете? – спросил он.
– Немного.
– С такта не собьетесь?
– Нет, с такта не собьюсь.
– Ну тогда берите этот бочонок, садитесь рядом с Валтасаром Бездоннером, управителем здешнего погреба и кларнетистом. Возьмите в руки вот эти деревянные бочарные молоточки и аккомпанируйте ему барабанной дробью.
Я был удивлен, однако согласился, правда, нехотя. Но если мой барабан был несколько необычен, то инструмент Валтасара был и того удивительнее: вместо кларнета он сунул в рот железный кран от сорокаведерной бочки. Рядом с ним уселись Варфоломей и Иаков с огромными воронками для вина, которые они приспособили под трубы, и ожидали, когда будет дан знак к началу. Стол отодвинули к сторонке, Роза и Бахус приготовились к танцу. Он махнул рукой, и грянула ужасающая, визгливая, фальшивая, оглушительная музыка, в такт которой я барабанил по бочонку.
Валтасар дудел в свой кран, который гудел и свистел, как дудка ночного сторожа. Чередовались только два тона: основной и противный пискливый фальцет. Оба трубача до отказа надули щеки, но извлекали из своих инструментов лишь робкие жалобные звуки, от которых щемило сердце, как от тех звуков, что издают морские раковины, когда в них трубят тритоны.
Танец, который исполняли Роза и Бахус, вероятно, был в ходу лет двести тому назад. Она взялась за юбку и растянула ее в обе стороны так, что стала похожа на большую толстую бочку. Стоя на месте, она перебирала ногами, то поднимаясь на цыпочки, то приседая в книксене. Зато ее кавалер, волчком вертевшийся вокруг нее, проявлял куда больше живости; он подпрыгивал, выделывая всякие смелые пируэты, прищелкивал пальцами и выкрикивал: гоп-ля, гоп-ля-ля! Забавно было смотреть на развевающийся во все стороны передничек девицы Розы, повязанный ему Валтасаром, на его дрыгающие ноги и на широкую веселую улыбку.
Наконец он как будто устал, он подозвал Иуду и Павла и что-то им шепнул. Они сняли с него передник и, взявшись за оба конца, принялись его тянуть и тянули, пока он не растянулся в целую простыню. Потом они позвали остальных, расставили их вокруг простыни и велели ваяться за ее край. «Так, теперь они, должно быть, начнут ко всеобщему удовольствию качать старика Валтасара, – подумал я. – Были бы своды повыше, а то, чего доброго, он еще разобьет себе голову». Тут Иуда и силач Варфоломей подошли к нам и схватили… меня. Валтасар Бездоннер язвительно усмехнулся. Я дрожал, я сопротивлялся, напрасно. Иуда крепко схватил меня за горло и грозился задушить, если я не перестану упираться. Я чуть не потерял сознание, когда они под общие ликующие крики положили меня на простыню, но я все же взял себя в руки. «Только не очень высоко, благодетели мои, не то я расшибу о подволоку череп», – в страхе взмолился я. Но они смеялись и перекрикивали меня. Тут они начали раскачивать простыню, а Валтасар трубил в воронку; меня бросало то вверх, то вниз; сначала на три-четыре, пять футов. Вдруг они стали подбрасывать сильней, я взлетел наверх и… сводчатый потолок раздвинулся, словно облако, я летел все выше, теперь уже над крышей ратуши, все выше, выше соборной колокольни. «Да, теперь тебе конец, теперь, если упадешь, сломаешь шею, в лучшем случае руки или ноги! – думал я. – Боже мой, представляю себе, как она посмотрит на калеку! Прощай, прощай жизнь, прощай любовь!»
Наконец я достиг высшей точки полета и теперь с той же стремительностью стрелой полетел вниз. Трах! Вниз, сквозь крышу ратуши, вниз, сквозь своды погреба. Но упал я не на простыню, а прямо на стул и вместе со стулом грохнулся навзничь на пол.
Некоторое время я лежал, оглушенный падением. Сильная боль в голове и холодный пол наконец привели меня в чувство. Вначале я не понимал, свалился ли я дома с постели или лежу в каком-то другом месте. Наконец я вспомнил, что свалился откуда-то с большой высоты. Я с опаской ощупал себя, руки, ноги, все цело, только голову ломило от падения. Я поднялся, огляделся. Я был в каком-то сводчатом помещении, в подвальный люк проникал тусклый свет, на столе с неубранными стаканами и бутылками чуть мерцала свеча при последнем издыхании, вокруг стола стояли стулья, а перед каждым стулом – пробные штофики с длинной полоской бумаги на горлышке. Так, теперь я постепенно все вспомнил. Я в Бремене, в винном погребе, я вошел сюда вчера на ночь глядя, пил вино, приказал меня тут запереть, а потом… дрожа от страха, я оглядел помещение, – все, все пробудилось вдруг в памяти. Что, если призрачный Валтасар все еще сидит в своем углу, а винные духи еще витают вокруг меня? Я отважился обвести робким взглядом все углы сумрачного подвала. А вдруг… вдруг это мне только приснилось?
Размышляя, обошел я длинный стол. Штофики с пробами стояли против каждого, как он сидел. Во главе стола Роза, потом Иуда, Иаков… Иоанн – все на тех же местах, где ночью я их видел, казалось мне, во плоти. «Нет, сон не бывает таким ярким, – подумал я. – Все, что я видел, что слышал, было наяву!» Но долго размышлять не пришлось: я услышал, как в двери повернулся ключ, дверь открылась, и старый управитель погреба вошел и поклонился мне.
– Только что пробило шесть часов, – сказал он, – и я тут, как вы и приказывали. Пришел вас выпустить. А как вы спали нынешней ночью? – продолжал он, когда я молча встал, чтобы последовать за ним.
– Сносно, насколько можно сносно выспаться на стуле.
– Сударь, – испуганно воскликнул он, внимательно приглядевшись ко мне. – Не приключилось ли с вами ночью чего неладного? Вы такой бледный, расстроенный, и голос дрожит!
– Отец, ну что могло здесь со мной приключиться? – ответил я, принуждая себя рассмеяться. – Что я бледен, что кажусь расстроенным, так как же иначе, ведь я только под утро заснул да еще не в постели.
– Что вижу, то вижу, – сказал он, покачав головой. – Да и ночной сторож сегодня чуть свет пришел ко мне и сказал, что, когда он проходил после полуночи мимо погребного люка, оттуда доносились голоса, какое-то пение, говор.
– Вздор, ему померещилось! Я немного попел для собственного развлечения, может, говорил во сне, вот и все.
– Чтобы я еще когда оставил в такую ночь кого-нибудь в погребе, нет, боже меня упаси! – бормотал он, подымаясь со мной по лестнице. – Должно, и натерпелись вы здесь страху, такого насмотрелись и наслушались! Пожелаю вам, сударь, доброго утра!
А в нише за решеткой Какая там красотка!
Помня слова весельчака Бахуса, побуждаемый жаждой любви, я пошел, проспав всего несколько часов, пожелать доброго утра своей прелестнице. Но она приняла меня холодно, сдержанно, а когда я шепнул ей несколько нежных слов, она отвернулась и, громко смеясь, сказала:
– Ступайте, проспитесь сперва, сударь!
Я взял шляпу и вышел, так пренебрежительно она со мной никогда раньше не говорила. Мой приятель, сидевший там в комнате за роялем, вышел следом за мной.
– Сердечный друг, – горестно сказал он, пожимая мне руку, – с твоей любовью покончено раз и навсегда, выбрось ее из головы.
– Это я и сам заметил, – сказал я. – К черту все на свете: прекрасные глаза, алые губки и глупую доверчивость к тому, что говорят девичьи взгляды, что произносят девичьи уста!
– Не кричи, наверху услышат, – прошептал он. – Но скажи, бога ради, правда, что ты всю ночь провалялся пьяный в винном погребе?
– Да, правда! А кому какое до этого дело?
– Не знаю, как это дошло до нее, но она проплакала все утро, а потом сказала: избави ее бог от такого пьяницы, который ночи напролет просиживает за стаканом вина и из любви к выпивке пьет в полном одиночестве, это пропащий человек, она не хочет больше о тебе слышать.
– Вот как? – равнодушно отозвался я, и мне стало немного жаль себя. – Значит, она меня никогда не любила, иначе выслушала бы меня; передай ей мой почтительнейший поклон. Прощай.
Я поспешил в гостиницу, быстро упаковался и в тот же вечер уехал. Проезжая в почтовой карете мимо статуи Роланда, я весьма дружески поклонился рыцарю давних времен, и к ужасу почтальона он кивнул мне каменной головой. Старой ратуше и винному погребу я послал воздушный поцелуй, потом забился в угол кареты и мысленно вновь пережил фантасмагории этой ночи.
Примечания:
1 Для сведения (лат.).
2 Года (лат.).
3 Перевод И. Миримского.
4 Перевод М. Рудницкого.
5 Руки (прочь) от выдумки! (лат.)
6 Руки прочь… (лат.)
Хранители сказок | Сказки Вильгельм Гауф